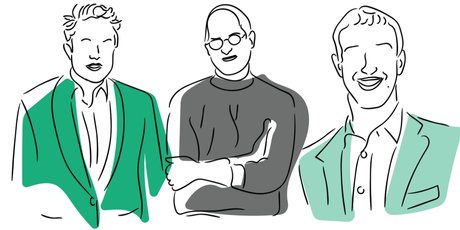Хочется сделать работу приятнее? Есть нетривиальный способ — добавить к рутинным процессам элемент игры. Сработает он в том случае, если вам хоть чуть-чуть нравится то, чем вы занимаетесь. А что делать дальше, рассказывает американский музыкант и писатель Стивен Нахманович, отрывок из книги которого («В состоянии потока», выходит в издательстве «Альпина нон-фикшн») мы публикуем.
Практика
Пока ваша одежда не станет мокрой от пота, вы не можете надеяться на то, что увидите жемчужный дворец на травинке.
Дзен-буддийский коан
Каждый, кто обучается игре на инструменте, спортивной дисциплине или другому виду искусства, должен иметь дело с практикой, экспериментом и подготовкой. Мы осваиваем умение только на деле. Существует громадная разница между замыслами, которые мы представляем или планируем воплотить, и проектами, которые мы действительно воплощаем. Она подобна различию между воображаемой любовной историей и той, где мы действительно сталкиваемся с другим человеческим существом со всеми его сложностями. Все об этом знают, но все же нас неизбежно ошеломляет масштаб усилий и терпения, необходимых при осуществлении задуманного. У человека могут быть прекрасные творческие наклонности, блистательные проявления вдохновения и возвышенные чувства, но творчества нет, пока творения не появятся на свет.
В консерваториях и на музыкальных отделениях вдоль длинных коридоров тянутся ряды крошечных репетиционных комнат для практики с более или менее звуконепроницаемыми стенами, в каждой из которых располагаются фортепиано и нотный пюпитр. Однажды я шел по такому коридору и наткнулся на помещение, которое только что было переоборудовано в административное. На двери висела табличка: ПРАКТИКОВАТЬСЯ В ЭТОЙ КОМНАТЕ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ. Какой-то шутник позже нацарапал ниже: ТЕПЕРЬ ОНА — САМО СОВЕРШЕНСТВО!
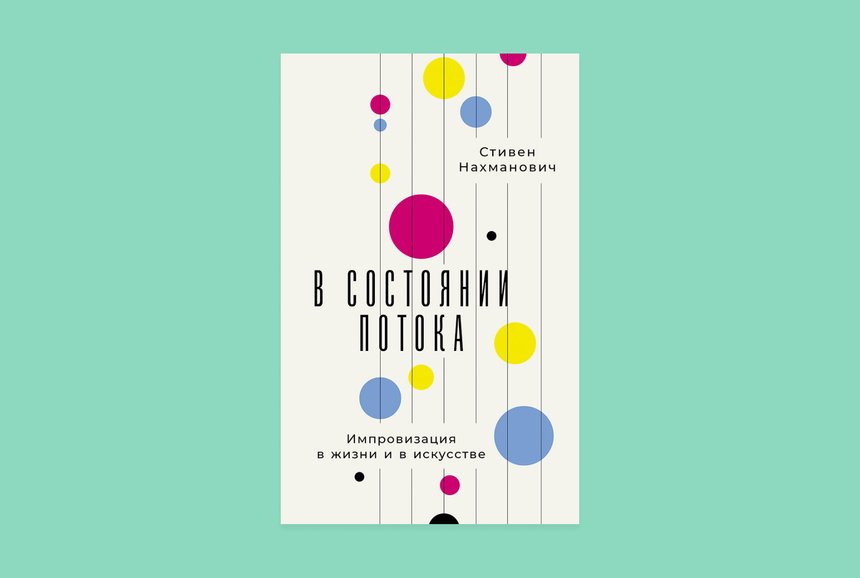
Наша шаблонная формулировка о том, что «практика ведет к совершенству», влечет за собой несколько тонких и серьезных вопросов. Практику мы рассматриваем в качестве деятельности, выполняемой в особом контексте подготовки к выступлению или «настоящему делу». Но если мы разделяем практику и настоящее дело, ни одно из них не станет поистине настоящим. Вследствие этого разделения, подвергаясь планомерной муштре удручающе скучными упражнениями, многие дети приучаются ненавидеть фортепиано, скрипку или саму музыку. Множество других приучаются ненавидеть литературу, математику или саму мысль о созидательном труде.
Самая обескураживающая и мучительная часть творческой работы (та, с которой мы бьемся на практике каждый день) — осознание разрыва между тем, что мы чувствуем, и тем, что можем выразить. «Чего-то недостает», — сказал мастер флейтисту. Мы часто смотрим на себя и чувствуем, что недостает всего! Именно в этом разрыве, в этой области неведомого, мы испытываем наиболее глубокие, но и наиболее трудно выразимые ощущения.
Техника может преодолеть этот разрыв. Она также может его увеличить. Если мы считаем технику или навык «чем-то», чего надо достичь, мы вновь погружаемся в дихотомию между «практикой» и «совершенством», ведущую нас по целому ряду порочных кругов. Если мы импровизируем с помощью музыкального или иного инструмента, либо идеи, которые нам хорошо знакомы, у нас есть основательная техника для самовыражения. Но техника может стать слишком основательной — мы можем настолько привыкнуть к знанию, как следует делать, что отдаляемся от новизны текущего момента. Эта опасность — неотъемлемая часть той самой компетентности, которую мы приобретаем, практикуясь. Компетентность, утрачивающая чувство своих корней, рожденных игривым духом, скрывается в жестких шаблонах профессионализма.
Западное понимание практики заключается в приобретении навыка. Оно тесно связано с нашей трудовой этикой, которая предписывает терпеть большие трудности и скуку в обмен на будущие награды. С другой стороны, восточное понимание практики заключается в создании человека, а точнее осуществлении или раскрытии полноценного человека, который уже существует. Это не практика ради чего-то, но полноценная и самодостаточная практика. В обучении дзену речь идет о подметании пола или приеме пищи как практике. Прогулке как практике.
Когда мы взрываем рамки искусственных категорий упражнения и настоящей музыки, то каждый тон, который мы исполняем, — одновременно исследование техники и полное выражение духа. Как бы высока ни была квалификация, нам нужно постоянно заново учиться играть, имея смычок начинающего, дыхание начинающего, тело начинающего. Так мы возвращаем себе невинность, любопытство, желание, которое изначально побудило нас играть. Так мы открываем для себя необходимое единство практики и выступления. Именно приятное ощущение процесса натолкнуло меня на мысль о практической применимости дзена к музыке.
Не существует такой иерархической структуры, где механическое действие или техника — прозаическая задача, с которой нам необходимо справиться ради будто бы более возвышенного духовного акта вдохновения или творения. Игорь Стравинский сказал: «Даже сам факт написания моего произведения, то, что я должен, как говорят, приложить к нему руку, неотделим для меня от удовольствия творчества»34.
Практика не только нужна для искусства, она есть искусство.
Вы не должны практиковать скучные упражнения, но вы должны практиковаться. Если вам скучно репетировать, не избегайте репетиций, но и не миритесь со скукой. Занимайтесь тем, что вам подходит. Если вы устали играть гаммы, играйте те же восемь тонов, но измените порядок. Затем измените ритм. Затем измените тембр. Вуаля, вы только что сымпровизировали. Если результат вам представляется не очень удачным, у вас есть возможность его исправить. Теперь в процесс нужно внести и сырой материал, и обратную связь. Такой способ особенно эффективен для музыкантов с классическим образованием, считающих, что они не могут играть без партитуры или развивать технику, не повторяя в точности какое-нибудь упражнение из учебника. Но это также применимо к таким областям искусства, как танец, рисование, театр. В любом виде искусства мы можем взять самую базовую и простую технику, изменить и персонализировать ее, пока она по-настоящему не увлечет нас.
Отработка техники ни скучна, ни интересна сама по себе; скуку выдумываем мы. «Скука», «очарование», «игра», «каторжный труд», «высокая драма», «соблазн» — это все названия контекстов, в которые мы помещаем то, чем мы занимаемся и как мы это воспринимаем.
Импровизация — это не «все, что угодно»; она может давать то же чувство удовлетворения структурой и целостностью, что и задуманное произведение. Но стоит отдать должное противоположной стороне. Порой нужно делать все, что угодно, ставить опыты, не боясь последствий, иметь игровое пространство, где не страшна критика, так чтобы была возможность выпустить наш бессознательный материал наружу, не подвергая его предварительной цензуре. Одна из таких сфер — психотерапия, где мы наслаждаемся полным соблюдением тайны, что позволяет нам исследовать самые глубинные и тревожащие вопросы нашей жизни. Другая — мастерская, где мы можем что-то попробовать и выбросить столько раз, сколько потребуется. Брамс как-то заметил, что отличительный признак человека искусства — то, сколько он выбрасывает. Природа, великий творец, выбрасывает что-то постоянно. Лягушка за один раз откладывает несколько миллионов яиц. Лишь несколько десятков из них становятся головастиками, и лишь немногие из них превращаются в лягушек. Мы можем использовать воображение и практиковаться столь же расточительно, как природа.
Хорошо известно, что можно дать толчок творческому процессу с помощью автоматического письма, просто позволяя словам литься, не подвергая их цензуре или оценке. Всегда можно выбросить их в мусорную корзину позже. Знать об этом необязательно.
Социальную форму автоматического письма представляет собой мозговой штурм, во время которого люди сидят вместе и выдают идеи, не боясь, что их осудят или обвинят в безумии. Его терапевтическая форма — метод свободных ассоциаций, когда, погружаясь в предсознательный и бессознательный материал, ему позволяют выражаться в свободной форме. В изобразительном искусстве существует автоматическое рисование, назовем его ручным штурмом.
Если вы владеете слепым методом печати и у вас есть компьютер, закройте глаза и печатайте. Просто позвольте словам идти от сердца к кончикам пальцев. Решительно не позволяйте глазам или мозгу вовлекаться в процесс. Вы можете вернуться позже и проверить текст на опечатки. Если вы не печатаете вслепую и у вас нет компьютера, если вы занимаетесь живописью, ходите под парусом или режете по дереву, изобретите собственный образ действия. Просто изобретите некий канал, текущий из сердца в действительность, и способ его фиксации, чтобы впоследствии в другом настроении вы могли оценить и исправить произведение. Практикуйте этот метод совершенно без- оценочно, непредвзято, изливая сердце. Затем, возможно, месяцы или минуты спустя — именно здесь ваш вид искусства уподобляется музыкальной импровизации — начинайте объединять режим свободной игры и режим оценки в одном и том же мгновении. Медленно откройте глаза, продолжая писать, позвольте вашим языковым и литературным знаниям, культуре и мастерству проникать в то, что изливается из сердца на бумагу, из сердца на компьютерный экран, из сердца на древесину.
Мне нравится ощущение в пальцах после того, как я поиграл на клавиатуре, на которой пишу эту книгу. Легкость все возрастает, пока я шевелю пальцами над клавишами, играя чистым кинестетическим чувством от ритмичного движения рук, прикосновения, нажатия и отпускания. Я могу взращивать это ощущение — неважно, печатаю ли я на клавиатуре, пишу в блокноте или черкаю на салфетках в ресторане.
В процессе автоматического письма и других форм свободного экспериментирования мы разрешаем себе сказать что угодно, пусть эпатажное, пусть глупое, поскольку ребяческое, однообразное, монотонное повторение будто бы чепухи (как в романе «На помине Финнеганов»*), — золотая жила, из которой добывается творческая работа. Во время практики условия благоприятны для того, чтобы попробовать не только то, что мы можем сделать, но и то, чего еще не можем. Перед импровизацией на музыкальных инструментах, навыками игры на которых мы обладаем, надо попробовать импровизировать голосом, телом, бытовыми предметами, простыми ударными инструментами и исследовать суть звука. Собаки могут быть превосходными импровизированными ударными инструментами и любят внимание.
Мы можем сконцентрироваться на небольших действиях. Во время автоматического письма слова могут быть чепухой, но я способен сконцентрироваться на разборчивости почерка, если пишу на бумаге, на точности нажатия на клавиши, если печатаю на клавиатуре. На скрипке я могу играть вообще любой музыкальный материал, но сконцентрироваться обстоятельно на всевозможных способах неуловимо разнообразить давление пальцев. Как ни странно, чепуха часто оказывается достаточно красивой именно потому, что я смотрю в другую сторону, сосредотачиваясь на том, чтобы добиться привлекательности и безупречности одного технического микроаспекта. Безупречное выполнение небольших действий увлекает тело, речь и разум в единый поток деятельности. Именно это физическое упражнение связывает вдохновение с конечным результатом.
Для человека искусства это представляется одним из самых сложных компромиссов: с одной стороны, очень опасно отделять практику от «настоящего дела»; с другой стороны, если мы начнем оценивать, что мы делаем, у нас не будет безопасного пространства для экспериментов. Наша практика балансирует между обоими полюсами. Мы «просто играем» для того, чтобы свободно проводить опыты и исследовать, не боясь поспешного суждения. В то же время мы играем с полной отдачей. Т. С. Элиот сказал, что каждое слово, каждое действие «шаг к преграде, к огню, к пасти моря». А художник Рико Лебрен* утверждал: «Я никогда не допускаю возбуждения, изображая формы, но, скорее, продвигаюсь так, словно участок бумаги за- минирован. Когда странствие завершено, рождается рисунок»36.
Практика придает творческим процессам устойчивый импульс, так что, когда возникают неожиданные образы (приходят ли они случайно, или производятся бессознательным), они могут встраиваться в растущий, дышащий организм нашего воображения. Тем самым мы выполняем важнейший синтез — растягиваем мгновения вдохновения до постоянно текущего процесса делания. Проявления вдохновения больше не просто озарения, вспыхивающие и гаснущие по прихоти богов.
Знаменитый афоризм Томаса Эдисона о вдохновении и поте абсолютно верен*, но на практике между ними нет дуализма; пот сам по себе вдохновляет. Я нахожу удовольствие, решая собственными силами каждую задачу. Я встречаюсь с материалом, сталкиваюсь с инструментом, сталкиваюсь с разумом и телом, рукой и глазом, сталкиваюсь с товарищами и аудиторией. Практика предполагает вступление в прямые, личные, интерактивные отношения. Это сочленение внутреннего знания и действия.
Мастерство приходит от практики, практика приходит от игривого, неконтролируемого экспериментирования (озорная сторона лилы) и от ощущения чуда (богоподобная сторона лилы). Спортсмен чувствует настоятельную потребность пробежать по дорожке еще раз; музыкант чувствует настоятельную потребность сыграть еще раз фугу; гончар хочет сделать еще один горшок перед уходом на обед. А потом еще один. Музыкант, спортсмен, танцовщик занимаются, несмотря на боли в мышцах, одышку и изнеможение. Такое поведение нельзя обеспечить посредством строгих предписаний супер-эго, посредством чувств вины или долга. Во время практики работа — игра, неизбежно приносящая награду. Это именно то чувство нашего внутреннего ребенка, желающего поиграть еще пять минут.
Неконтролируемую сторону практики особенно легко испытать благодаря новому искусству программирования. Программа, которую мы пишем, сама является быстро реагирующим процессом, который нам возражает в реальном времени. Мы втягиваемся в диалог с программой, пишем и переписываем ее, тестируем, исправляем, тестируем и исправляем снова, пока не получится, а потом находится что-то еще, что нужно исправить. То же самое применимо к практике игры на инструменте, живописи или письму. Когда мы делаем что-либо действительно хорошо и работаем на максимуме, то демонстрируем признаки зависимости, правда эта зависимость скорее живительна, чем разрушительна.
Чтобы творить, нам нужна и техника, и освобождение от техники. Поэтому мы практикуемся до тех пор, пока наши навыки не станут неосознанными. Если вам придется сознательно думать, какие действия предпринимаются, чтобы ехать на велосипеде, вы сразу свалитесь. Магический элемент, порожденный практикой, — своего рода перекрестные торги между сознательным и бессознательным. Выверенная и рациональная техническая информация о методах выполнения исключается из сознания, чтобы мы были способны «делать это во сне». Пианист порой может прекрасно сыграть Бетховена или блюз, рассуждая о ценах на рыбу. Мы можем писать на родном языке, совсем не задумываясь о том, как тяжело нам было в детстве учиться выводить каждую букву.
Когда навык доходит до определенного уровня, он скрывается. Многие произведения искусства, которые кажутся простыми и не требующими усилий, могли быть полем битвы не на жизнь, а на смерть, когда мастер их создавал. Когда навык скрывается в бессознательном, он проявляет бессознательное. Техника — это проводник для передачи на поверхность обычно неосознанного материала из мира грез и мира мифов туда, где его можно увидеть, назвать, спеть.
Практике, а особенно той, что включает состояния самадхи, часто свойственен ритуал. Ритуал — форма торжескакания, во время которого особо украшается или подчеркивается обычная деятельность, что придает ей исключительный, более острый или даже сакральный характер. Эта мысль осенила меня однажды, когда мне впервые дали возможность поиграть на скрипке Страдивари. Мне пришлось предварительно вымыть руки, хотя они и так были чистыми. Мытье рук было знаком перехода из рутинного мира в святилище, осененное прекрасным и сакральным инструментом.
Из подобного опыта и бед, в которые я попадал, им пренебрегая, я вынес, что эффективность практики во многом зависит от ее подготовки. Поскольку практика — набор манипуляций, который мы изобретаем для себя, она различна для каждого человека, как различны искусство и ремесло каждого из нас. Расскажу о том, как готовлюсь я, исходя из своего опыта практики. Парадоксальным образом я обнаружил, что, готовясь творить, я уже творю; практика и совершенство уже объединились.
Мои основные действия включают все, что я предпринимаю, чтобы быть в форме и подготовиться к неожиданностям, используя весь спектр доступных ресурсов. Мне необходима энергия для приобретения навыка, энергия для практики, энергия, чтобы продолжать переносить неизбежные спады, энергия, чтобы продолжать заниматься, когда я делаю успехи и есть соблазн откинуться на спинку стула и расслабиться. Мне необходима физическая энергия, интеллектуальная энергия, духовная энергия и энергия либидо. Средства черпать эти виды энергии хорошо известны: тренируйте тело, хорошо питайтесь, хорошо спите, ведите дневник сновидений, медитируйте, наслаждайтесь радостями жизни, читайте и получайте богатый опыт. Когда возникает преграда, взорвите ее мощными бомбами: при помощи юмора, друзей, природы.
Специальные приготовления начинаются, когда я вхожу в теменос, игровое пространство. По мысли древних греков, теме- нос — магический круг, ограниченное сакральное пространство, внутри которого применяются особые правила и происходят необычайные события. Моя студия или любое другое место, где я работаю, — лаборатория, в которой я провожу опыты с собственным сознанием. Подготовить теменос — прибрать, произвести перестановку, вынести посторонние предметы — значит очистить и прибрать разум и тело.
Даже преграды для творчества и их преодоление можно рассматривать как одно из приготовлений. Далее в книге мы поговорим подробнее о возникновении препятствий, но пока смотрите на них не как на болезнь или аномалию, но как на часть начальной процедуры, настройку. Вначале я предмет в состоянии покоя; мне придется соприкоснуться с некоторыми важными законами, чтобы сняться с неподвижного места. Попытки преодолеть инертность тщетны по определению. Наоборот, начните с инертности как фокусной точки, превратите ее в медитацию, преувеличенную неподвижность. Дайте теплу и импульсу, как естественной реверберации, возникнуть из неподвижности.
Когда одолевают злые духи смущения и чувство перегруженности, порой их можно убрать, прибрав пространство. Когда вы действительно взвинчены, попробуйте сделать следующее. Уберите все с рабочего стола. Начисто протрите его поверхность. Возьмите гладкий прозрачный стакан, наполните его чистой водой и поставьте на стол. Просто сидите и смотрите на воду. Пусть вода будет образцом неподвижности и ясности ума. Когда разум ясен, движения рук и тела становятся простыми и сильными.
Подготовьте инструменты. Начиная от покупки и заканчивая их очищением, техническим обслуживанием и ремонтом, выстройте с ними близкие, живые, долгосрочные отношения. Орудиям нужно работать не только по отдельности, но и вместе. Когда я прибираю комнату и инструменты, производя перестановку, наблюдая сдвиги в отношениях между ними, я управляю элементами своей жизни и искусства, перемещая их и меняя контексты. Так я смогу посмотреть свежим взглядом на орудия моей практики, что поможет избавиться от устаревших или избитых идей.
Не отвлекайтесь. Пусть сеанс пройдет три естественные фазы: молитва… работа… благодарность.
Вступительный ритуал (вынуть скрипку из футляра, включить компьютер, надеть танцевальную одежду, открыть книги, смешать краски) сам по себе доставляет удовольствие. Вынув инструмент из футляра, исследуйте его, почувствуйте его: как я его держу? Я настраиваюсь, в том числе настраиваю инструменты, настраиваю тело, настраиваю внимание, исследуя и слегка балансируя ощущения в суставах, мышцах, крови.
Когда я даю живой концерт, сцена и весь театр становятся теменосом. На сцене должно быть чисто, провода скрыты, инструменты размещены красиво и так, чтобы их было легко использовать, освещение отрегулировано, температура воздуха комфортна. Затем я уединяюсь и совершаю короткую медитацию, короткую молитву. Потом выхожу на сцену и начинаю. Если на этот момент чего-то не хватает, обхожусь без этого.
Со временем я научился относиться к каждому отдельному творческому сеансу дома так же, как отношусь к живому концерту. Другими словами, научился относиться к себе с теми же заботой и уважением, которые дарю аудитории. Это был незаурядный урок.
Такие ритуалы и приготовления нужны для того, чтобы освободиться и очиститься от омрачений и беспокойных сомнений, обратиться с молитвой к музам, как бы мы их себе ни представляли, раскрыть наши способности к посредничеству и сосредоточенности и придать нашей личности устойчивость перед дальнейшими задачами. В этом обостренном, включенном, настроенном состоянии творческой деятельностью становится все, что мы делаем и воспринимаем.