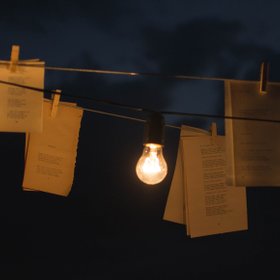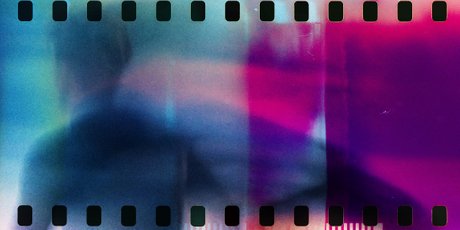Современная поэзия — очень странная штука. Читаешь стихотворение — и не понимаешь примерно ничего, даже при наличии изрядного багажа гуманитарных знаний. Что с ней не так? Или, может быть, с нами что-то не так? Редактор «Цеха» Иван Шарков попытался выяснить это в разговоре с поэтом Данилом Файзовым. Беседовали о том, куда из стихов делись рифмы, чем жила литературная Москва 2000-х и почему поэты такие умные, но при этом такие бедные.
«За рифмой легко спрятать смысловую беспомощность»
Что сейчас происходит с поэзией? Почему в современных стихотворениях редкостью стала рифма?
Она совсем не редкость. Примерно 70% поэзии сейчас по-прежнему пишется регулярным стихом[1]. Лишь оставшиеся 30% — это верлибры[2], которые вы, полагаю, имеете в виду под стихами без рифмы.
Понятно, почему современную поэзию именно с этой формой сейчас ассоциируют. Она человеку, который воспитан на Пушкине и Лермонтове, кажется странной, халтурной, непонятной. Так или иначе, верлибр вызывает яркую реакцию, привлекает больше внимания, чем регулярный стих.
Плюс ко всему многие склонны не видеть рифму там, где она на самом деле есть. Тем временем рифма — очень разноплановое явление. Помимо классических рифм бывают рифмы тавтологические, составные, ассонансные, смысловые. Они вообще приближают стихотворение по звучанию к обыкновенной разговорной речи.

В любом случае написать стихотворение ямбом — больший труд, чем написать верлибр…
Вообще не согласен с этим. В регулярном стихе есть вещи, за которыми можно спрятать смысловую беспомощность. Если ты научился более или менее гладко рифмовать и не сбиваться с ритма, сразу давать стихотворению размер и просто подбирать созвучные слова, которые на этот размер ложатся, — ты можешь гнать любую ахинею километрами. И это будут читать — потому что всё же в рифму, звучит классно.
В верлибре так не получится. Рифма не держит внимания читателя — нужно работать над качеством образного ряда — подбирать цитаты, метафоры, метаметафоры. Это большая, тонкая работа. И если тебе нечего сказать, верлибр из-под пера не выйдет.
Как понять, что верлибр плохой?
Он неинтересен. Я просто не вижу в нем месседж. То, например, что мне 17 лет, меня бросила девушка, я стою у окна и грустно курю — это не месседж. Потому что большинство стихоподобных текстов об этом, собственно, и написаны. И совершенно не важно, есть в них рифма или нет ее. Это плохо, потому что это неинтересно. Кому нужны ваши, собственно говоря, страдания? Мы сами страдать умеем!
Раз верлибр ни разу не проще регулярного стиха, почему многие перестали писать в рифму?
Потому что поэзия не ограничивается рифмой — это не единственное ее выразительное средство. Есть метафоры, цитаты, центоны и многое-многое другое. Странно себя ограничивать стандартными классическими средствами.
Это всех искусств касается. Можно, скажем, всю жизнь рисовать углем. Черное и белое — основа основ, прекрасный выразительный тандем в рамках изобразительного искусства.
Можно всю жизнь вместо того, чтобы ставить пьесы, играть пантомимы. Простой, но предельно почтенный жанр
Но, как видите, искусство не стоит на месте и развивает свой язык. Потому что без отхождений от классики автор никак не найдет собственный голос. А это самое главное — голос найти. В поэзии, как и в искусстве в целом, вторично, сколько людей автора прочитали и поняли. Тут важно, чего нового автор сказал и привнес своего в этот мир, насколько он уникален.
Первоосновная задача пишущего человека — произвести некоторое высказывание, которое кроме него не произведет никто. Во что бы то ни стало создать уникальную вещь. Об этом Вальтер Беньямин писал в первой половине XX века, рассуждая о том, как производить искусство в эпоху его тотального воспроизводства — через кинематограф и фотографию в первую очередь.
Беньямин совершенно точно определил: фотоснимок картины не представляет такой же художественной ценности, как сама картина. Иначе говоря, репродукция не равна произведению, первому проявлению идеи.
Так же и в поэзии. Поэт, подражающий эпигонам или повторяющий за ними, никогда не станет равен тому, кому он подражает. Наш голос не будет уникален, если мы будем писать стихи по пушкинским лекалам, как бы гениальны они ни были сами по себе. Это проявление чужой гениальности — нам нужно проявить свою. Если она нам нужна (а она нам нужна, иначе какие из нас поэты), то мы должны искать новые способы высказывания, искать нехоженые тропы. Неискушенному человеку они, разумеется, кажутся порой странными.
Поэтому я не стану неискушенному человеку читать Аркадия Драгомощенко или Михаила Еремина. Их язык очень сложен, поскольку индивидуален, поскольку они смогли сделать новое. Неискушенному я прочитаю что-то более понятное и яркое.
Алексея Цветкова, например?
Нет, нужно что-нибудь попроще. Хотя Алексей Петрович, конечно, был выдающимся мастером, я его высоко ценил и даже был дружен с ним.
Но все-таки Сергей Маркович Гандлевский был бы проще для восприятия человека неискушенного. Или — почему бы и нет — Дмитрий Воденников, хороший поэт, особенно в свой период цикла «Репейник». Разумеется, я сейчас говорю не о своих пристрастиях — у меня они предельно широкие. Я рассуждаю сейчас как культуртрегер и книгопродавец, человек, который продает книги и читает их перед людьми, чтобы они поняли, нужно им их покупать или нет.
Современные живопись, скульптура, перформанс, даже ready made сейчас, как мне кажется, отлично (даже незаслуженно отлично) монетизируются. Они тоже непонятны почти никому, тоже объясняют свою непонятность поиском нового художественного языка: «Вы не понимаете потому, что так еще не было сказано». Многие соглашаются и платят за это искусство бешеные деньги. Почему поэты этим не пользуются и так же не продают свое искусство?
Возможно, не стоит такой задачи. И потом, потребление вербального искусства всегда сопряжено с усилием. Ну вот смотрим мы на писсуар Дюшана. Он поставил в музей писсуар, написал на нем: «Фонтан». Смотрящий делает об этом вывод за считаные секунды. Один взгляд — и он уже идет либо гневаться, либо восхищаться смелости.
Чтобы такой же эффект его постиг от стихотворения Алексея Петровича Цветкова, ему недостаточно пары секунд. Ему надо потрудиться. И над самим стихотворением, и после прочтения, и главное — заранее. Чтобы понять и воспринять Цветкова, он должен быть начитан, насмотрен, разбираться в философии, кино и так далее. Словом, быть читателем — не меньший труд, чем быть поэтом. Сложно представить, чтобы кто-то заплатил за то, что его заставили без практической надобности всерьез шевелить извилинами.
Есть ощущение, что поэзия никогда не была популярной. Всегда писалась и читалась узким кругом образованных людей. Иной публики у нее просто не было. Были ли в нашей истории периоды, когда поэзия выбиралась из салонов и интеллигентских гостиных на свет?
Вы совершенно верные вещи говорите. Евгений Рейн любил вспоминать, что на одно из последних прижизненных выступлений Блока в Петрограде пришло 3 человека.
Проблески большой популярности у поэзии, конечно, были. Одно время ее приобретали не сами стихи, а отдельные поэты. Поэты большого калибра. Например, Борис Пастернак. В 20-е годы прошлого века он собирал полные залы, которые вставали и аплодировали, стоило ему в них войти.
Сама по себе поэзия получила настоящую популярность в советский период. Она тогда во многом подменяла другие способы высказывания, по политическим соображениям невозможные. Тут мы говорим в первую очередь о поэтах оттепели, которых с легкой руки Станислава Рассадина принято называть шестидесятниками.
Они делали поэзию, которую вживую слушали большие массы людей и которую потом назвали «стадионной». Отметим, правда, что под стадионом имелись в виду не стотысячные тогда «Лужники», а куда более скромные арены — тысяч на 15–20. Всё равно очень много — сейчас никому такое и не снилось.
Эти стадионы были полны представителями, так скажем, довольно многочисленного класса образованных людей, интеллигенции — и трудовой, и научной. В поэзии они нашли то, в чем очень нуждались: информацию, условную дозволенную долю свободы высказывания — ту свободу, которую Мандельштам называл «ворованным воздухом».
Может быть, это лучше, чем ничего. Хотя, конечно, с точки зрения вечности и онтологического понимания поэтического поэзия — не публицистика. Она не может, например, быть такой же злободневной. Но тогда, в 60-е, в отсутствие настоящей публицистики, поэзия ее заменяла. И, как следствие, забрала ее аудиторию. Но вообще, поэзия — вещь по определению, как уже говорилось, не массовая.
«Именно тогда в Россию пришла культура слэма»
Когда сказал, что буду общаться с вами, коллеги, к моему удивлению, стали вспоминать, как ходили на поэтические вечера в нулевых. Говорили, что для многих студентов гуманитарных вузов это было нормой. Как по-вашему, поэзия тогда правда переживала хорошие времена?
Нулевые действительно были временем достаточно серьезного поэтического расцвета. Интересно было… Но, понимаете, я расцвет понимаю как период большого разнообразия художественных языков. Что по поводу популярности, социокультурного значения поэзии в нулевые… Наверное, тут играет роль определенная закономерность.
История нашей поэзии движется по синусоиде: спад-подъем, спад-подъем. В 60-х был подъем, в 70-х — спад, в 80-х — небольшой подъем, в 90-х — снова спад. И вот нулевые. Всё стало лучше, люди закрыли какие-то базовые потребности и потянулись к пище духовной. Хотя преувеличением будет сказать, что потянулись массово.
Вот что в сравнении с обществом студенты-гуманитарии? В процентном отношении — очень небольшое количество
Плюс ко всему поэзия чисто географически мало где была популярна. Тут мы в первую очередь, конечно, говорим о Москве. Потом обязательно об Урале, максимально литературоцентричном регионе, где задолго до нулевых сложилась сильная и необычная поэтическая школа. О Санкт-Петербурге говорим тоже.
В остальной России поэзией занимались и интересовались очень немногие — Россия занята была тогда совершенно другими вещами, как была занята вчера, как занята сейчас, как будет занята завтра.
Как тогда проходили поэтические вечера? Они были чем-то вроде квартирников?
Проходили они по большей части в клубах, кафе и книжных магазинах. Конечно, мы старались, чтобы всё проходило камерно, но иногда выступления приходилось проводить в тесных барах: мы читали и слушали стихи бок о бок с людьми, которые просто пришли выпить пива. В такой атмосфере выступали очень яркие люди. Шиш Брянский, плеяда «Осумасшедшевших безумцев», Всеволод Емелин, Андрей Родионов.
Кстати, именно тогда в Россию пришла культура слэма. Во многом наши выступления строились именно на ней — на безумии, на надрыве, огромных чувствах и бешеных методах их выражения. Словом, это было шоу.
Так выступал, например, Андрей Родионов — блестящий исполнитель собственных текстов и до сих пор одна из главных фигур русской поэзии.
В середине нулевых поэзия стала не только шоу, но еще и своего рода соревнованием. В 2005–2006 годах я вот, например, был в числе организаторов открытого командного чемпионата Москвы по поэзии. Тогда мы поместили в турнирную сетку восемь команд, и они сражались, играя на вылет, тур за туром за статус лучших поэтов.
Это было очень громкое событие, были настоящие аншлаги. Бывало, что кафе вмещало 100 человек, а на тур приходило 150, а то и 200. Они до отказа забивали залы, стояли в дверных проемах, сидели втроем на одном стуле и друг у друга на коленках.
Выступления были экспрессивными, энергичными. Подача играла большую роль, нельзя было выйти и читать свои стихи монотонно, подражая, скажем, Бродскому. Нужны были жесты, артикуляция, шепот и возгласы.
Это было что-то наподобие версус-батлов?
Версусы — любопытное явление, но это не поэзия. Один из вариантов ее бытования — да. Забавный, интересный, зрелищный, но далекий от поэзии самой по себе. Потому что речитатив с версус-батла нельзя распечатать и прочитать отдельно от автора и от обстановки этого, так скажем, поединка. Нет, можно, конечно, но мы ничего не поймем или увидим перед собой довольно бесцельный и бесполезный текст, который ни о чем нам не расскажет и ни о чем не побудит задуматься.
Мы занимались другим. Читали стихи, которые писались для того, чтобы быть стихами, и не должны были становиться панчами.
В Москве за это время успели возникнуть литературные кружки? В каких отношениях они были друг с другом?
Естественно, успели. Группироваться, общаться, проводить время вместе — нормальное человеческое свойство. Наверное, можно назвать три основные общности среди младших поэтических поколений. Первая группа — участники и симпатизанты «Осумасшедшевших безумцев». Они делали жесткие, иногда агрессивные стихи, я бы назвал это поэзией на грани фола.
Параллельно с ними в Москве писалась и печаталась более сдержанная поэзия — несколько неоакмеистическая, которая вполне, несмотря на меньшую экспрессивность, находила своих почитателей, ничуть не меньше привлекала внимания, когда читалась на уже упомянутом чемпионате Москвы по поэзии. Центром притяжения неоакмеистов была литературная группа «Алконостъ».
Была поэзия, не похожая ни на то, ни на другое, — ее делало содружество независимых литераторов «Вавилон», фронтменом, скажем так, которого был поэт Дмитрий Кузьмин. То, что они делали, можно условно назвать актуальной поэзией.
Разумеется, этим картина не исчерпывается. Множество самых разных и замечательных поэтов не принадлежали ни к каким общностям или группам, формализованным или нет. Перечисление этих фамилий займет много страниц, и всё равно кого-то забудешь и он в итоге обидится. Это поэты самых разных возрастов и эстетик.
Отношения… В целом всё было довольно перетекающе. Споры о поэзии оставались спорами о поэзии, соперничество за публику — им же. Личные конфликты, разумеется, имели место, но не определяли атмосферу. Кидаться друг в друга чем-то дурно пахнущим было не принято.
На что тогда жаловалась Вера Полозкова (внесена в реестр террористов и экстремистов. — Прим. ред.)? Почему тусовка ее не приняла?
Я бы не говорил о тусовке. Стихи на русском языке сейчас пишет несколько тысяч человек. Заметно и хорошо получается у нескольких сотен. Можно ли воспринимать этих людей как единое целое, какую-то закрытую тусовку? Уверен, что нет.
Что до Веры, то неприятие ее творчества литературными кругами, к которым она правда очень тянулась, действительно было. Причины были разные. Главная… Не скажу, что зависть, но, наверное, ощущение странной несправедливости.
В начале пути метод письма у Веры был довольно механистический. Позже его назвали сетеписьмом
Этот метод позволяет километрами гнать одну и ту же историю, пересказывая ее разными словами, строя по ней бесконечный ряд метафор без цели развить мысль, прийти к чему-то. Такой, знаете, маховик.
У этого стиля нашлось много подражателей, многие, посмотрев на Веру, решили, что поэзия — это просто. Таких людей нашлось много, причем в них не было зачатков таланта, которые были в самой Вере. Они начали писать якобы стихи. Хотя, на мой вкус, это были не стихи, а… выхолащивание поэтической материи.
Но уже в нулевых Вера была бешено популярна. Многих это уязвило или как минимум озадачило. Какой-нибудь старый поэт смотрел на юную поэтессу Верочку и понимал, что они занимаются разными видами спорта. Он катается на горных лыжах, а она — на водных. Он пишет стихи, а она рифмует мысли, которые приходят в голову всем более или менее начитанным барышням ее лет. И не то чтобы этот старый поэт ошибался.
Потом Вера, конечно, выросла. У нее появилось немало совершенно замечательных текстов — вот о них уже можно говорить именно как о поэзии.
Поэзией можно было зарабатывать?
Нет-нет, бросьте. Какие-то исключения, может быть, были, но поэзия — дело неприбыльное.
Кем работали поэты?
Кем угодно. Мы делали в свое время цикл литературных вечеров «Коллеги». Собирали поэтов-архитекторов, поэтов-медиков, даже поэтов-геодезистов и поэтов-священников. Но, конечно, поэт чаще всего — филолог или журналист.
На каких позициях тогда был Литинститут имени Горького? Он был чем-то вроде точки спавна?
Прямо скажем, в нулевые он котировался не очень высоко. Одно время его даже чурались. Но в последние 15 лет он действительно стал местом, которое аккумулирует молодых поэтов, в первую очередь молодых людей из регионов. Они туда поступают, получают общежитие в Москве и так вырываются из своего провинциального гетто, где они и их стихи мало кому нужны. Там они находят некую среду, где можно расти и развиваться. Сейчас это вполне симпатичный вуз, с моей точки зрения.
«Сколько-то поэзия поживет, попыхтит, потопает по Земле»
Чем кончилась эпоха, о которой мы говорим?
Конкретного события я не назову, да и нельзя, наверное, его определить. Эпохи уходят постепенно. В 2017 году в Гослитмузее мы делали выставку «Литературная Атлантида: поэтическая жизнь 1989–2013». Крайняя точка «2013» такова потому, что в 2013-м закрылся клуб «Билингва», место притяжения московских поэтов и людей, которых интересовало их творчество. Годом ранее закрылся клуб «Проект О.Г.И.» — еще более значимое для литераторов место. Были свои бары, кафе и книжные магазины. Но потом этот эон закрылся, ситуация стала меняться. И поэзия перекочевала в залы музеев и библиотек.
Политические изменения повлияли на закрытие эона?
Я бы предпочел эту тему сейчас не педалировать.
Хорошо. Вот у нас в истории не раз были эксперименты, когда поэта ставили говорить с толпой, делали из него государственного глашатая наподобие Демьяна Бедного. Шестидесятники — они уже по своей воле, но тоже говорили с толпой. И так говорили, что до сих пор их строки знают наизусть…
Давайте только говорить не «с толпой», а «с широкими массами» — слово «толпа» имеет негативную коннотацию.
Окей, широкие массы. Они сейчас будут слушать поэта?
Сомневаюсь. Поэт — не газетная передовица. Если он пытается ей быть, выходит очень дурно — даже при наличии большого таланта. Поэт создан не с широкими массами говорить, а с самим собой в первую очередь.
Фельетон совсем нельзя подружить с поэзией?
В большинстве случаев нет. Нет, есть люди, которые на этом специализируются. Это очень узкая ниша, она требует очень серьезного, тонкого чувства юмора, способности мыслить парадоксально. Это крайняя редкость.
А есть примеры?
Всеволод Емелин — большой мастер фельетона. Евгений Алёхин тоже. Оба очень брутальные, я бы сказал, авторы. Но опять же они — исключение из правила.
А о чем тогда должен писать современный поэт?
Ну это вопрос довольно бессмысленный. О чем хочет. О том, что его волнует. Главное — не кривить душой.
Разве не могут талант и мастерство, как клещи, вытащить творчество на достойный уровень, если ты не веришь в то, о чем пишешь?
Мне кажется, неверие трудно скрыть. Сталинские стихи Ахматовой, например, далеко не лучшее из того, что написано Анной Андреевной. Настоящему поэту не удается себя пересиливать.
Что будет дальше с поэзией?
Ну сколько-то она поживет, попыхтит, потопает по Земле. Она точно еще не выключена из мира. Ее язык всё еще может описать происходящее, поэтические формы и моды всё еще отвечают на изменения извне. В общем, рано еще хоронить поэзию. Быть может, еще случится бум ее популярности. А может, этот бум происходит сейчас — просто мы поймем это, только когда он закончится и мы окажемся совсем на дне, будем вспоминать наши дни с ностальгией.
Не очень-то оптимистично. Это потому что люди тупеют?
Я не думаю, что они тупеют. Просто их пути с поэзией расходятся. Поэзия не может не усложняться — чем дольше существует культура в любом своем проявлении, тем сложнее ее язык. Люди не могут не тяготеть к простоте, простоте в первую очередь функциональной. Они не против сложных выводов самих по себе, важно только прийти к ним быстро.
У современного человека очень мало времени на то, чтобы думать. Ему надо срочно бежать, заработать все деньги мира, родить всех возможных детей, посадить деревья, отстроить дома. А еще у всех ипотека и в «Магнолии» распродажи. Ребенка надо в секцию отвезти после школы.
И если во всем этом круговороте у него вдруг вспыхнет высокая потребность что-то осмыслить, он включит фильм или сериал, а не потянется за книгой. Его нельзя за это осудить — он уставший и, скорее всего, несчастный. Но то, как за последние 10–15 лет изменились его предпочтения, безусловно, мешает нашему ремеслу.
Обложка: © Ana Maria Tone / Shutterstock / Fotodom