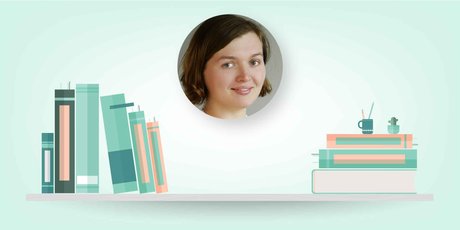В рубрике «Полезное чтение» мы просим экспертов в области образования, друзей «Цеха» и известных людей рассказать нам о нон-фикшн книгах, которые помогли им в карьере, саморазвитии и самообразовании. В новой подборке своим списком любимой и полезной литературы делится генеральный директор Центра Вознесенского Ольга Варцева.
Этот список — не только моя личная рекомендация, но и достаточно полное отражение работы Центра Вознесенского. Мы в нашей литературной программе стараемся показать, что грань между художественной литературой и нон-фикшн давно уже стала проницаемой. Плюс, рассказываем о книгах, которые являются не только художественным жестом, но и говорят о бытовом и остросоциальном. Ну и, конечно, хорошая книга — это всегда хорошая книга, каким бы ни был ее посыл.
«Пройти сквозь стены», Марина Абрамович
Автобиография великой художницы и очень сильной женщины. Марина Абрамович всей своей жизнью (иногда этой жизнью рискуя), показывает, что искусство — это не развлечение, а нечто, что меняет сознание, срывает покровы и открывает нам неудобную правду о нас самих. Четыре дня плакать, петь и очищать от мяса окровавленные кости — в память о бойне в родной Югославии. Дать зрителям полную свободу делать, что угодно, со своим телом — и после обнаружить первую седину у себя в волосах. Молча смотреть пришедшим на перформанс людям в глаза и уже через несколько минут вызывать у них слезы. В античности все это называлось словом «катарсис» — когда, глядя на страдания героя, рыдал целый театр. У Абрамович страдания — как и самый интимный или пограничный опыт — не выдуманы, и подносятся зрителю в концентрированном виде — здесь и сейчас.
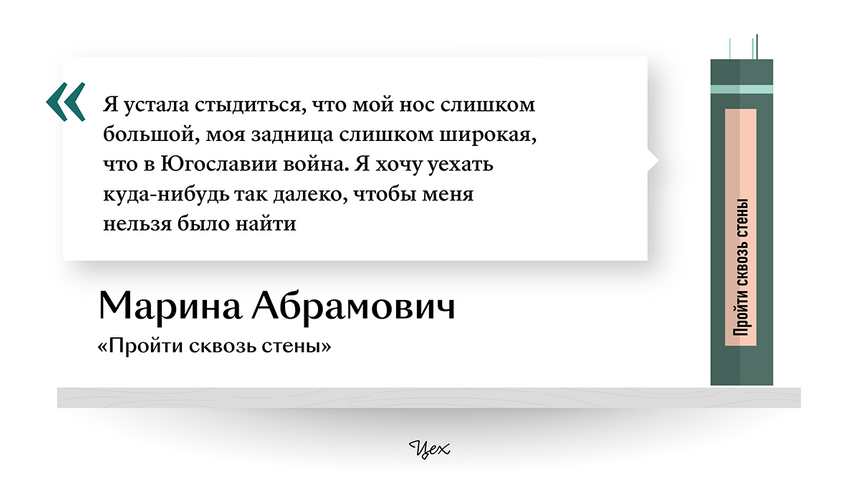
«Под знаком Сатурна», Сьюзен Зонтаг
Одна из самых влиятельных интеллектуалок XX века, Сьюзен Зонтаг, достаточно хорошо известна у нас по имени — во многом, благодаря Бродскому, который упоминал ее в прозе и посвятил ей свои «Венецианские строфы».Но мало кто у нас читал ее эссе, романы и критические статьи. Новый переводной сборник — еще один повод нарушить этот statusquo. Книга с главными эссе Зонтаг 70-х годов — о людях, во многом определивших западную мысль и культуру прошлого века: философах Вальтере Беньямине и Ролане Барте, писателе и философе Поле Гудмане, драматурге и новаторе Антонене Арто с его «театром жестокости», а также эстетике Ленни Рифеншталь.
«Природа зла», Александр Эткинд
Книга историка Александра Эткинда обращена к не новой теме, но разбирает ее очень обстоятельно. Как самое разное сырье — от нефти до хлопка и трески — влияло и влияет на политику и культуру добывающих стран. Для кого ресурсы становятся благословением, а для кого проклятием, и почему. С некоторыми выводами в книге можно спорить, но множество любопытных сведений будут в любом случае занимательными.
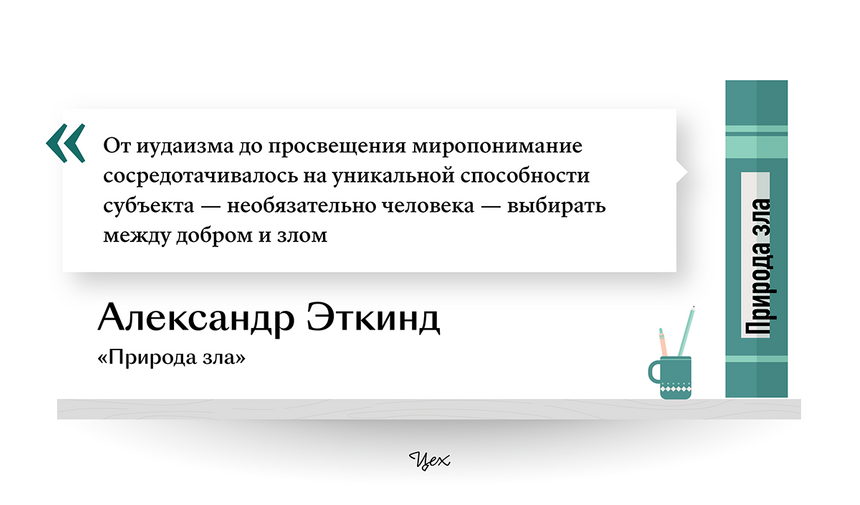
«Опасные советские вещи», Александра Архипова
Любопытное исследование о страхах и табу советского человека, о которых мы сегодня уже не помним. Борода Троцкого в пламени на спичечном коробке, толченое стекло во «вражеской» жвачке, массовая паника, чуть не приведшая к отказу от пионерских галстуков. Все это сейчас могло бы показаться смешным — если не думать, насколько безумной (и опасной) может быть жизнь в закрытом и искусственно взвинченном на идеологической почве обществе.
«Человек раздетый», Екатерина Гордеева
Два десятка интервью, в которых Екатерина Гордеева говорит о важном и интересном с очень разными, но знаковыми для современной русской культуры людьми. От Людмилы Улицкой и Наталии Солженицыной до Кирилла Серебренникова и Ксении Собчак. Картина получается довольно мозаичной, но, кажется, книга от этого только выигрывает.
«Вещество человечности», Ольга Седакова
«Мне кажется, ничто так не ново сейчас, как тишина и серьезность», — так говорит Ольга Седакова в одном из своих интервью, вошедшем в новый сборник, и эти слова, наверное, можно было бы поставить эпиграфом ко всей книге. Чтобы противостоять иронии и упрощению — немного приевшимся, не все еще актуальным для современного искусства, — нужна очень своя и зрелая оптика. Как и для того, чтобы сегодня заново переводить Данте. Или говорить, что культурный мейнстрим заранее создает своего потребителя, решая за него, что ему интересно, а что — нет. Ольга Седакова последовательно идет по своему пути, унаследованному от неподцензурной поэзии 60-х — 70-х, и остается на нем очень самобытной.
«Против нелюбви», Мария Степанова
Если писать о ком-то, то лучше это делать из любви, — иначе получится очередной «филиал Страшного суда», недобрый, а зачастую и неправдивый. Об этом — во многом — эссе, давшее название новому сборнику Марии Степановой. Но об этом, по сути, и все остальные эссе в книге. Настоящая любовь правдива, и автор очищает своих героев — самых разных, но в большинстве своем знаменитых — от штампов и культурных общих мест, позволяя заново (и даже интимно) почувствовать Цветаеву, Блока, Высоцкого, Сьюзан Зонтаг или Сильвию Платт. Набор героев в книге подчеркнуто субъективный (чего стоит соседство Майкла Джексона и Алисы Порет), но это только добавляет к ощущению подлинности: всех их Степанова берет за руку и выводит — очень своим и личным путем — из небытия.
«Песнь Ахилла», Мадлен Миллер
Формально следующая всей канве гомеровского эпоса, книга Миллер — это роман о любви и принятии другого, подчас болезненном и жертвенном, но от этого только более искреннем. Можно даже думать, что общеизвестный сюжет здесь выбран затем, чтобы не отвлекать от этой внутренней, главной линии. Подчеркнуто простой язык книги кажется вполне подходящим для описания архаической Греции, а боги и кентавры — естественной частью пейзажа, все главные события которого происходят внутри.
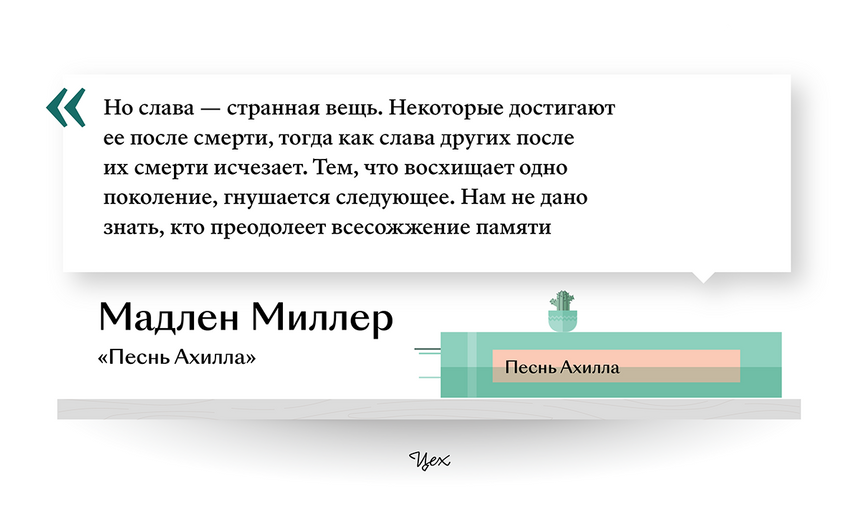
I love Dick, Крис Краус
Первый русский перевод I love Dick, выпущенный издательством NoKiddingpress, мы недавно презентовали у нас в Центре Вознесенского. Сегодня эта книга, написанная почти четверть века назад, входит в золотой канон феминистской литературы. Может быть потому, что, кроме феминистского пафоса, в ней еще очень много тем — от философии и женского искусства, до самоанализа (книга Краус — роман о вдумчивой, осознающей себя любви) и признания собственных ошибок. Начинающаяся как одержимость, неудачная любовная история героини превращается в своеобразный манифест о любви, созданный художником и творцом.
Переиздание (без купюр) «Благоволительниц» Джонатана Литтелл
Затягивающее и вместе тем трудное чтение. Трудное из-за сложного синтаксиса и скрупулезно прописанной жестокости в, казалось бы, всем знакомых сценах Второй мировой. Затягивающее — из-за убедительности. Довольно просто описать трагедию жертвы (по крайней мере, у литературы здесь большой опыт); намного сложнее — драму палача, и уж тем более –достоверно, почти обыденно, показать, что на его месте мог бы оказаться каждый. XX век, с его войнами и тоталитарными режимами, показал, насколько страшным может быть человек; Джонатан Литтелл (не первым, конечно, но очень убедительно) показывает, как страшным — незаметно и шаг за шагом — может стать любой из нас. В этом смысле новое, без купюр, издание мало что добавит к первому, но мрачных красок и объемности добавит безусловно.