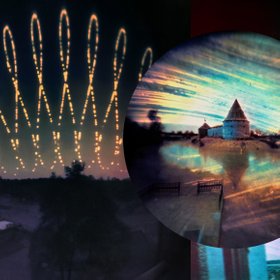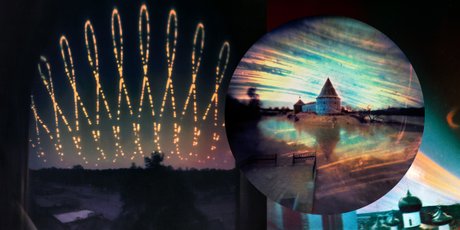В творчестве Евгения Чебаткова нет мата и шуточек ниже пояса. При этом он стабильно собирает огромные залы и миллионы просмотров — людям заходит «интеллектуальный стендап». Поэтому мы даже не удивились, когда узнали: Чебатков теперь еще и голос совместного проекта Государственного Эрмитажа и VK «Один музей. Три взгляда» (пройти по одному из музейных маршрутов можно в сопровождении его комментария). И решили — это отличный повод встретиться с Женей и попросить его поразгонять на «умные» темы.
«Ну ладно, уговорил, идем в Эрмитаж»
Совместный с Эрмитажем проект в моей жизни возник неожиданно. До этого с музеем меня связывали только несколько посещений и знакомство с директором Михаилом Пиотровским — мы познакомились год назад на одной сессии, где обсуждали культурные проекты. Я тогда был им очарован — эта очарованность перенеслась и на музей. Поэтому, когда в предложении, которое пришло от VK, я увидел слово «Эрмитаж», сразу же согласился. К тому же я всю жизнь ждал совместного проекта с Клавой Кокой (она тоже — голос этого проекта).
Вообще, я очень люблю культурные проекты — это всегда про возможность дать аудитории какой-то импульс к изучению, новый взгляд на что-то. У меня нет иллюзий по поводу того, что после того, как я приму в этом участие, все сразу полюбят ходить в музеи, но верю, что хотя бы захотят попробовать. Проверят, может ли это быть интересно даже для человека, который мало понимает в искусстве.
У меня даже есть доказательство: когда стало известно о проекте, мне начали писать друзья и знакомые из Петербурга: «Ну ладно, уговорил, идем в Эрмитаж». Иронизируют, конечно, я это понимаю. Но надеюсь, что в итоге они действительно все-таки идут.
Потому что экскурсия действительно крутая — и не потому, что ее веду я. Она очень меняет восприятие музейных экспонатов: красивые картинки наполняются историями, биографиями художников, историческими фактами. На все смотришь иначе, даже на известные ранее произведения: так, до экскурсии я знал картины Веласкеса, но не был погружен в его творчество, в его совершенно особенное, остроумное ощущение пространства и персонажей. Это не может быть неинтересно.
«Поставь рядом музей и тикток — совершенно очевидно, кто победит»
В музеи я стараюсь ходить чаще. Иногда приходится пересиливать себя — нельзя всё время смотреть мемы. Не потому, что любить выставки — это «правильно» и «так надо», по факту никому ничего не надо. Хочет человек — смотрит только мемы, он свободен в этом выборе. Сам я хочу по-другому, хотя и не скажу, что такой уж эстет и знаток искусства. Мне просто любопытно: как это сделано, почему произошло именно так, почему я вижу одну картину — и мне нравится, а на другую смотреть неприятно?
Не всегда, конечно, этого любопытства хватает. В театры, например, мне очень сложно ходить: моя жена работает в театре, зовет меня на постановки — а я не могу вот так взять и просидеть три часа на одном месте, концентрируясь только на спектакле. Почти физически больно становится, хочется встать, размяться — или хотя бы достать телефон и полистать рилсы.
Мне не нравится эта мозговая жвачка, просто она отлично работает на наше восприятие реальности сегодня
Если искать крайних, то в этом виноваты рекламщики — в широком смысле. Я сам работал в рекламе и знаю, о чем говорю. Они борются за внимание и для этого разгоняют медиа. Если ты не удивляешь и не даешь эмоцию — теряешь шанс удержать аудиторию. Музеи и театры в этой гонке, конечно, проигрывают. Поставь рядом музей и тикток — совершенно очевидно, кто победит.

Другое дело кинематограф — его многие воспринимают лучше. Я люблю кино, даже авторское, но до экспертности мне далеко. Не то чтобы я мог включить Тарковского с любого момента и пересказать весь сюжет до этого, конечно.
У меня есть фильмы, которые приводят меня в настолько яркое эмоциональное возбуждение, что я всегда показываю их друзьям, если они эти фильмы еще не видели. Последний раз это было с Павлом Дедищевым, стендап-комиком, — оказалось, что он не смотрел «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча. Я ему сказал, что посижу рядом, пока он смотрит, а в конце буду задавать вопросы — потому, что люблю этот фильм и те эмоции, которые от него получаю, а не потому, что хочу навязать какую-то свою трактовку. Я же не кинокритик, к тому же не особо разбираюсь в теме. Линч мне, безусловно, нравится, но если вы попадете на квиз, где будут вопросы по всему его творчеству, и решите кому-то набрать за помощью — мне не звоните.
Я не готов биться за свое понимание фильмов с теми, кто говорит: «Нет, ты что, он совсем не это имел в виду, и вообще „Твин Пикс“ надо смотреть задом наперед». Мне это неинтересно.
Некоторые фильмы-комедии меня подтолкнули к стендапу. Мой личный топ комедий — «Аэроплан» и «Голый пистолет». Еще я люблю фильмы Саши Барона Коэна: как казахстанец, конечно, я не могу хорошо относиться к «Борату», но и не признать, что это реально смешной фильм, тоже сложно.
Есть мнение, что в России не снимают хороших комедий, — это не так. Просто был сложный период в 1990-х и 2000-х, когда почти все снимали драму, а комедия стала территорией кавээнщиков. Они ей знатно попортили репутацию. Но отличные комедии есть. «Даун Хаус», например, меня очень поразил в свое время.
«Есть микрофон, я, зритель — и мы выясняем, что к чему. Для этого не нужно летать на тросе»
Литературу из всех видов искусства я люблю больше всего, с детства. Дедушка мне постоянно подсовывал какую-то новую классную книгу, причем всегда угадывал — мне абсолютно все нравилось.
Любимую книгу выделить сложно. Сейчас перечитываю «Другие берега» Набокова — в целом очень люблю Набокова, Бунина тоже. Сергей Довлатов когда-то стал для меня почти родным человеком: знакомство с ним совпало с очень сложным и трансформационным периодом в моей жизни — тогда настольной книгой стал сборник его произведений.
Я у Довлатова многому научился в плане юмора — мало кто может так легко и смешно писать о грустном
В его произведениях всегда трагедия — неопределенность, эмиграция, одиночество, нарушение жизненных принципов. Но читаешь про все это — и смешно. Больше всего у Довлатова я люблю «Чемодан». Из-за формы в том числе — там все решено через вещи в чемодане — получается такой сборник мини-новелл.
Но оригинальность формы я в стендап переносить не хочу. Вообще не очень люблю эксперименты с жанром: он мне нравится в чистой форме. Есть микрофон, я, зритель — и мы выясняем, что к чему. Для этого не нужно летать на тросе, взрывать фейерверки и выезжать на сцену на мотоцикле.
«Я сейчас в Российской государственной библиотеке веду чтения — мы собираемся и читаем классику, обсуждаем ее»
Не думаю, что восприятие искусства через юмор снижает его ценность. Можно шутить вообще над чем угодно — вопрос только в тональности шутки. Молодое поколение сейчас почти все воспринимает через юмор, такие реалии.
Поэтому такие проекты, как наш, и нужны. Чтобы привлечь. Все нужно уметь правильно подать — тогда человек заинтересуется и сам. Я сейчас в Российской государственной библиотеке веду чтения — мы собираемся и читаем классику, обсуждаем ее. На эти чтения приходят студенты и иногда даже школьники, которые полтора часа сидят в зале, слушают классическую литературу и отвлекаются от телефонов. Это круто. Не потому, что они якобы «стали умнее» за эти полтора часа, вообще дело не в этом — главное, что они немного замедлились и переключили мозг. Я об этом и сам себе постоянно напоминаю — о том, что нужно замедляться. «Да, Женя, надо сходить в театр и посидеть там эти три часа с антрактом, как бы тебя ни ломало от этой мысли».
Жду теперь, когда меня в театр заманят каким-нибудь приколом так же, как мы заманиваем в музей
Поэтому в том числе называть себя интеллектуалом без иронии я совершенно не могу. И никогда, на самом деле, не называл. Тренд на то, чтобы определять мое творчество как «умное», задал Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) — в 2021 году он назвал интервью со мной «Стендап для мозга». Со мной, естественно, никто ничего не согласовывал. Это было его мнение, которое многие восприняли как мое личное позиционирование. Хотя не припомню, чтобы перед каждым выступлением я выходил и говорил: «Пришло время для настоящих интеллектуалов».
На самом деле, чтобы тебя посчитали интеллектуалом в стендапе, нужно не очень много: шутить на темы выше интимной жизни и, как в моем случае, не использовать мат. Я поставил себе такую задачу: на сцене не ругаться матом — хотя в жизни я его использую.
Дело даже не в принципах, просто мне мат не идет. Я не умею ругаться так, чтобы это было уместно и смешно
К тому же на всем моем карьерном пути меня активно поддерживают близкие — бабушки, дедушки, мама. А у нас дома не принято ругаться матом. И я понимаю, что мне будет ужасно неудобно материться со сцены, зная, что они это увидят. В этот же внутренний ограничитель залезли все шутки на скабрезные темы: про секс, в частности. Я сам не люблю такое слушать — мне не особо смешно. Намного интереснее, мне кажется, придумывать нетривиальные ходы, прикольные комедийные решения. Как кто это считывает — уже не мое дело. Но сам я никогда это интеллектуальностью не называл.
«Чуть-чуть грязи, немножко мата — и кредит доверия аудитории намного выше»
В стендап-карьере глобально есть два пути развития: или ты осознанно шутишь замороченно и готов к тому, что тебя не особо воспримет аудитория, или твой материал состоит из шуток, всем понятных, — про семейные отношения, про сексуальную жизнь, про личный опыт. Чуть-чуть грязи, немножко мата — и кредит доверия аудитории намного выше. Это разные подходы, которые вовсе не означают, что кто-то лучше, а кто-то хуже.
Сам я в начале карьеры шел вторым путем — это было проще. Я тогда совсем не понимал, как все работает, поэтому выходил и рассказывал все, что мне казалось смешным. И мат на выступлениях использовал, и про секс шутил. Потом попал в шоу Stand Up на ТНТ — продюсеры считали, что тот подход, который я бы хотел использовать, в корне неправильный — есть понятные схемы и понятные репризы, которые точно зайдут, зачем что-то другое придумывать? Поэтому приходилось шутить над тем, что я рыжий. Я не стыжусь того этапа — он был просто необходим для дальнейшей карьеры. Если бы не было этого негативного опыта первых лет, дурацких монологов, — не было бы и того собственного видения, которое у меня есть сейчас.
Кто-то изначально идет первым путем — и не сворачивает с него. Если и вешать ярлык «интеллектуальности» на кого-то, то я повесил бы его на Севу Ловкачева. Он человек глубокого самоанализа и большущей рефлексии, любит заигрывать с отсылками к истории, культуре и поп-культуре. Для него это особое удовольствие. Когда мы пишем шутки вместе, он очень любит сослаться, к примеру, на третью часть «Звездных войн». Я говорю: «Блин, Сев, у этого нет шансов залететь вообще». Но у него совершенно особенная аудитория — им такое заходит.
Я в поп-культуре тоже в целом разбираюсь. Стараюсь следить за событиями, особенно в сфере компьютерных игр. Могу поддержать разговор о любой новой игре. Но только компьютерной — настольные я ненавижу всем сердцем.
У меня от них посттравматический синдром: настольные игры поломали слишком много моих дружеских отношений
За кино и сериалами тоже слежу, даже если что-то не успеваю посмотреть. Всегда понимаю, про что тот или другой популярный сериал, кто в нем сыграл, как приняла аудитория. С мемами немного сложнее — они слишком быстро входят в тренд и выходят из него. Но мне это особо и не нужно — в стендапе я их точно использовать не буду. Мне очень не хочется заниматься каким-то цитированием цитирования — хотя и не отрицаю, что мы все живем в постмодернизме, где всё копия всего и отсылка ко всему.
Я недавно был гостем на подкасте «Министерство поп-культуры» — Сева один из его ведущих, вместе с коллегами обсуждает новости кино, музыки и игр. Мне на подкасте было сложно: такая подробная аналитика поп-культурных явлений — не для меня. Я вполне готов жить в реальности, в которой есть много разных мнений. Навязывать кому-то свою позицию — бессмысленно.
«Возможно, надо просто ходить к психологу, чего я не делаю. Но меня устраивает мой способ»
Я в целом разлюбил спорить с людьми, теперь всегда выбираю уйти от любого конфликта. С недавнего времени это начало распространяться и на критические высказывания о выступлениях. Теперь мне могут сказать: «Мне твой стендап вообще не нравится». И я в этот момент подумаю: «Пожалуйста, вообще супер, круто».
И это даже не будет самообманом. Хотя еще год-полтора назад я бы даже не пытался так отреагировать — не смог бы. Критика всегда меня очень задевала. Кто-то намеренно пытался вызвать эмоцию — и это получалось, я всегда велся, потому что всегда было от этого больно. Начинало изнутри всё съедать, думал: «Почему они так поступают, я же им ничего не сделал».
И вот год назад случился концерт, я его назвал «Лава». В нем я довольно много шучу про критиков, про свое отношение к ним. Даже не то чтобы шучу — скорее говорю правду со смешной интонацией. Это стало внутренним прорывом — я никогда не был настолько искренен на публике.
Всё, что я там говорил, — не преувеличение и не постметаирония. Это слабость, в которой захотелось признаться
Проговорив там это всё, сняв на камеры, я в каком-то смысле проработал этот вопрос для себя. С момента выхода этого концерта я живу другую жизнь, в которой нет постоянного ощущения конфликта — и внешнего, и внутреннего. Я этот конфликт высмеял и выставил напоказ.
Не говорю, что это правильно, — возможно, надо просто ходить к психологу, чего я не делаю. Но меня устраивает мой способ. Так же у меня было с концертом про отца. До того как я рассказал о нем на сцене, я не мог об этом говорить даже с близкими людьми — сразу подступал ком, становилось сразу и больно, и стыдно, и обидно. А сейчас это такая же тема, как и любая другая, о которой я могу говорить спокойно, без истерик.
При этом превращаться в комика, решающего свои психологические зажимы на сцене, я не хочу. Вопрос с критикой был не столько зажимом, сколько полноценной травмой, которая мне отравляла жизнь, заставляла реагировать на любую мелочь так, как реагировать совершенно точно нельзя. И освобождение от этого убрало рамки, дало толчок к творческим экспериментам.
Сейчас у меня уже вышел новый концерт на «Кинопоиске» — «Человек-слепень». Совсем другой по настроению и содержанию, как мне кажется. Его бы не случилось, если бы до этого не было того прошлогоднего эмоционального сброса.

В этом концерте я много говорю о мечтах. Искренне считаю, что я сейчас в самом начале карьерного пути, потому что стендап — жанр, требующий долгого изучения и погружения. Так что десять лет в стендапе — это только старт.
И все то, что я сейчас вкладываю в свое творчество — и концертами, и проектами, особенно культурными, как в случае с Эрмитажем, — в долгосрочной перспективе это все обязательно сыграет. Это в каком-то смысле чеховское ружье. Его я уже повесил — где-нибудь там, в будущем, обязательно выстрелит.
Обложка: © Алексей Бронников / Государственный Эрмитаж