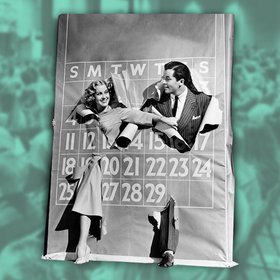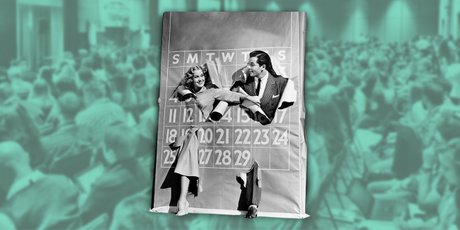В рубрике «Полезное чтение» мы просим экспертов в области образования, друзей «Цеха» и известных людей рассказать нам о нон-фикшн книгах, которые помогли им в карьере, саморазвитии и самообразовании. В новой подборке своим списком любимой и полезной литературы делится фольклористка Мария Гаврилова.
«Секретный мир детей в пространстве взрослых», Мария Осорина
Взрослые не так уж давно — примерно в середине XIX века — осознали, что детство — это не просто время, когда ты глупый, неумелый и должен слушаться старших, а особый период, когда человек проходит через некий специфический опыт, определяющий его дальнейшую жизнь. Книга Марии Осориной — это одновременно и великолепный образчик «этнографии детства», и ностальгическая книга для тех, кто рос в до-дигитальную эпоху. Впервые я прочитала «Секретный мир детей» еще в студенческие времена, и тогда она оказалась для меня откровением — насколько важными и сложными могут быть ничего не значащие, на первый взгляд, события. Книга Осориной — это энциклопедия дворового, уличного детства в позднем СССР. Для меня и моих ровесников — тех, кто родился в 1970–1980-х годах — это яркое воспоминание о нашем собственном свободном и опасном детстве, а для читателей помладше — увлекательный рассказ о практиках постройки шалашей и исследования помоек, а также тонкий анализ культурной и психологической подоплеки всего этого.
«Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», Михаил Бахтин
В кругу моих студенческих друзей эта книга была одним из хитов наряду с «Охотой на овец» Харуки Мураками, «Хазарским словарем» Милорада Павича, «Именем розы» Умберто Эко и даже творчеством, прости господи, Карлоса Кастанеды. Мы не только почерпнули оттуда выражения «материально-телесный низ» и «амбивалентность», которые радостно употребляли в повседневной речи, но даже использовали слово «Бахтин» в качестве оценки какой-нибудь ситуации в целом. «Бахтин» для нас был синонимом реабилитации всего, чего мы стыдились, и что рвалось наружу: «сниженной» телесности, дионисийской бесшабашности, «дурного вкуса», черного юмора. Те, кто взрослел позже нас, вряд ли поймут, насколько наше поколение было внутренне зажатыми, как много важных вещей мы друг с другом не проговаривали, и до какой степени мы сами себя не знали. Мы все были родом из СССР, где не было ни секса, ни товаров в магазинах, а любую попытку обсудить реальные проблемы называли «клеветой на советский строй». Так что Бахтин с его знаменитым раблезианским карнавалом был для нас, книжных детей, чем-то вроде Вудстока для молодежи 1960-х — мы даже не отдавали себе отчет, что это вообще-то научный труд. Для нас это был праздник жизни и фестиваль свободы.
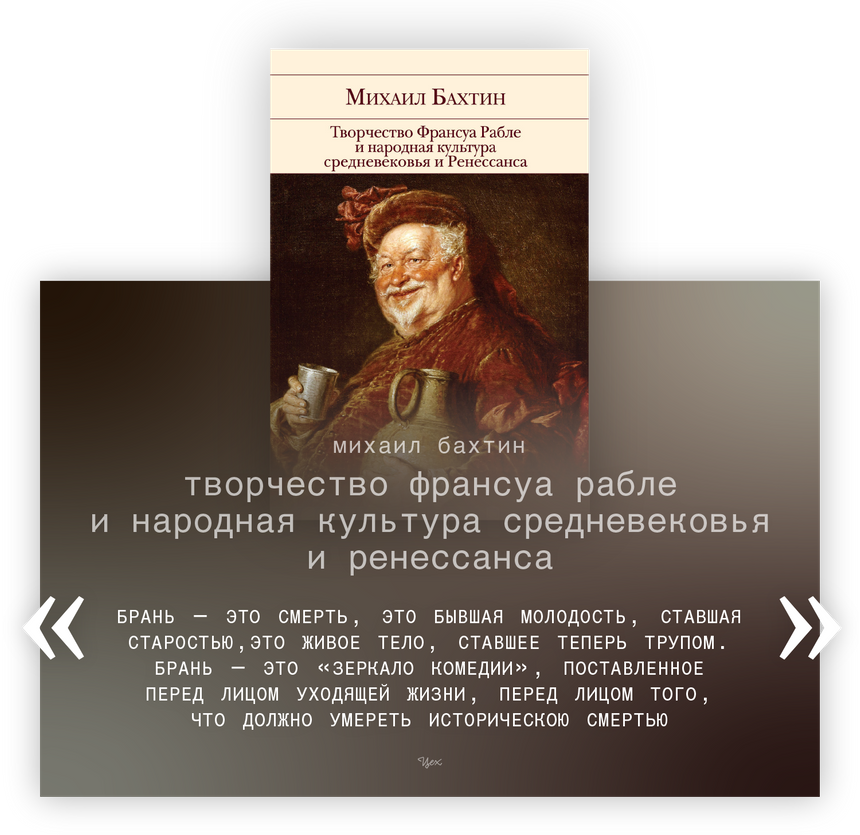
«Происхождение языка: факты, исследования, гипотезы», Светлана Бурлак
Это одна из лучших научно-популярных книг, которые я когда-либо читала. Еще со школы я интересуюсь биологией и, хотя выбрала для себя совершенно другое направление деятельности, стараюсь не упускать случая почитать или послушать что-нибудь популярное по теме. А уж если биология каким-то образом объединяется с более близкими мне областями исследований, то я радуюсь, как дитя. Книга лингвиста Светланы Бурлак именно такая. Она совмещает в себе всё, что я ценю в нон-фикшне: данные из самых разных областей, основательный обзор чужих теорий и выдвижение автором собственной объяснительной модели, а также строгое следование научным принципам и ясное, живое изложение, доступное каждому. У меня вызывает восхищение и зависть умение автора проложить ровную и основательную дорогу между таким количеством разных берегов.
«Поэтика сюжета и жанра», Ольга Фрейденберг
Ольга Михайловна Фрейденберг — филолог-античник, двоюродная сестра Бориса Пастернака, с которой он всю жизнь поддерживал близкую дружбу. На мой взгляд, это одна из величайших ученых-гуманитариев, писавших на русском языке в ХХ веке. Однако трагическая судьба Ольги Михайловны — яркий пример того, какую роль в успехе и славе играет везение. Ее новаторская книга «Происхождение сюжета и жанра» вышла в 1937 году, но была довольно быстро отовсюду изъята и уничтожена, как и всё чересчур смелое и свободное в те времена. Сама Ольга Михайловна не была репрессирована, но оказалась в полной научной изоляции — без работы, без связей и даже без доступа к источникам. Она погибла от голода в блокадном Ленинграде, до самой смерти продолжала писать научные работы, без всякой надежды, что их кто-нибудь прочитает. Разбирать архив Фрейденберг и публиковать ее труды начали лишь спустя десятилетия.
«Поэтика сюжета и жанра» рассказывает о том, из чего «сделана» художественная литература — персонажи, типовые сюжеты и метафоры, литературные жанры и многое другое. Она рождается из античного домашнего быта, площадных развлечений, телесных практик и локальных религиозных культов. Сегодня эта книга может показаться несколько старомодной, к тому же у Фрейденберг очень своеобразная манера письма, но для меня Ольга Михайловна — гений и визионер, а содержательная глубина ее текста лично у меня вызывает головокружение.
«Культура и мир детства», Маргарет Мид
Американка Маргарет Мид прославилась своим первым же научным трудом, написанным по результатам экспедиции на остров Самоа. В 1920-е, еще довольно пуританские времена, интеллектуалы тащились от Фрейда и сексуальности как подоплеке всего на свете, поэтому Мид, решив изучать, как проходит пубертатный период у самоанских девушек, попала в кон. Она не стала умалчивать об активной добрачной половой жизни островитян, а еще написала, что это одна из причин, почему местная молодежь не страдает никакими неврозами, в отличие от их европейских и американских ровесников. Книга получилась скандальной и стала бестселлером.
Следует также добавить, что биография Маргарет Мид сама по себе чрезвычайно увлекательна. Один из её эпизодов — как во время экспедиции на в Папуа — Новую Гвинею, куда Мид отправилась со вторым мужем антропологом Рео Форчуном, она встретила своего третьего мужа, антрополога Грегори Бейтсона — лег в основу романа Лили Кинг «Эйфория», бестселлера по версии The New York Times. Личные и научные взаимоотношения внутри этого любовного треугольника Мид описала в своих мемуарах «Иней на цветущей ежевике», фрагмент из которых попал в этот культовый советский сборник.
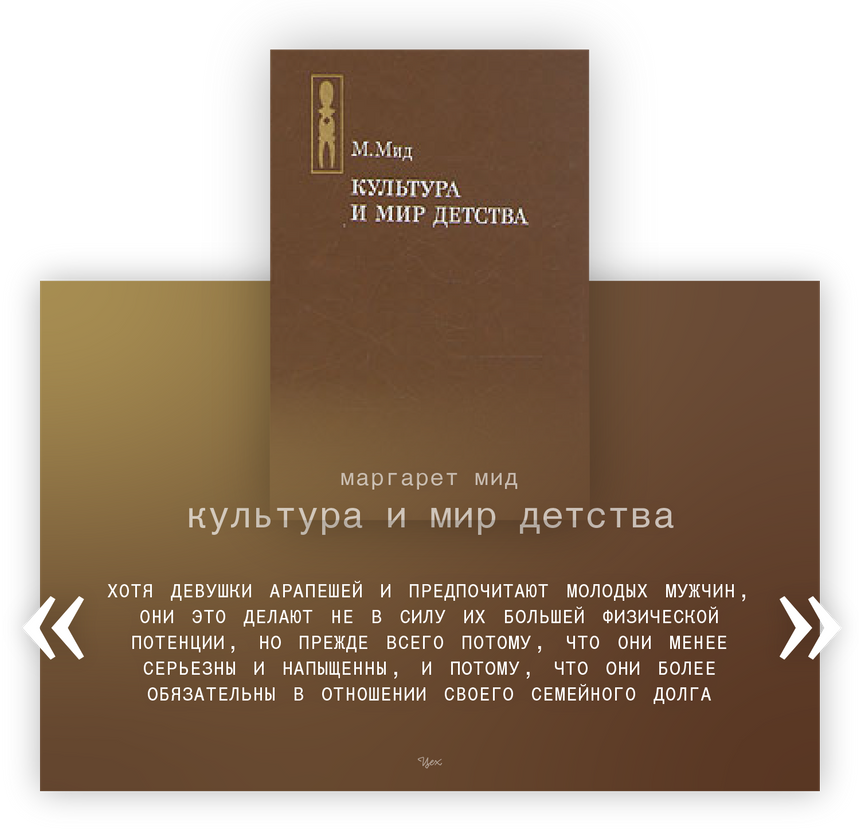
The Ambiguity of Play, Брайан Саттон-Смит
Много лет я занималась игрологией — в этой области есть три основных классических труда: Homo Ludens Йохана Хёйзинги, «Игры и люди» Роже Кайуа и «Неоднозначность игры» (The Ambiguity of Play) Брайана Саттон-Смита. Последняя из них — это обзор всего, что когда-либо было написано про игру и играние — от художественной литературы до трудов по физике. Однако главная ценность этой выдающейся работы в другом. Об игре писать крайне сложно, и, пожалуй, самая большая проблема — сформулировать определение, что это вообще такое. Саттон-Смит в своей книге сумел играючи обойти это затруднение, сосредоточившись не на том, что ж такое мы все имеем в виду, а на том, в каких видах риторик мы обычно используем это понятие. И, как впоследствии выясняется, именно эта ловкая и остроумная тактика позволяет если и не ухватить игру за хвост, то максимально приблизиться к ней и как следует рассмотреть в естественной среде обитания.
«Очерк о даре», Марсель Мосс
Очень странные ощущения испытываешь, когда рекомендуешь труды классиков сто-с-лишним-летней давности, однако мой опыт общения со студентами подсказывает, что такая реклама никогда не бывает зря. Тем более, когда дело касается такой социально значимой и актуальной по сей день работы, как «Эссе о даре» Марселя Мосса. На мой взгляд, Мосс — это уникальный ученый, и его «Эссе о даре» должны читать все, причем еще в школе. Я думаю, наш мир стал бы намного лучше, если бы то, что написано в этой книге, было известно людям так же хорошо, как «Волга впадает в Каспийское море». С одной стороны, это книга о «презренной» экономике, а с другой — о том, какая экономическая подоплека может лежать под дружескими взаимоотношениями, бескорыстием и альтруизмом. Если в вашем обществе нет денег, если вы ничего не продаете и не покупаете, то это еще не значит, что у вас нет оборота материальных ресурсов и экономики.
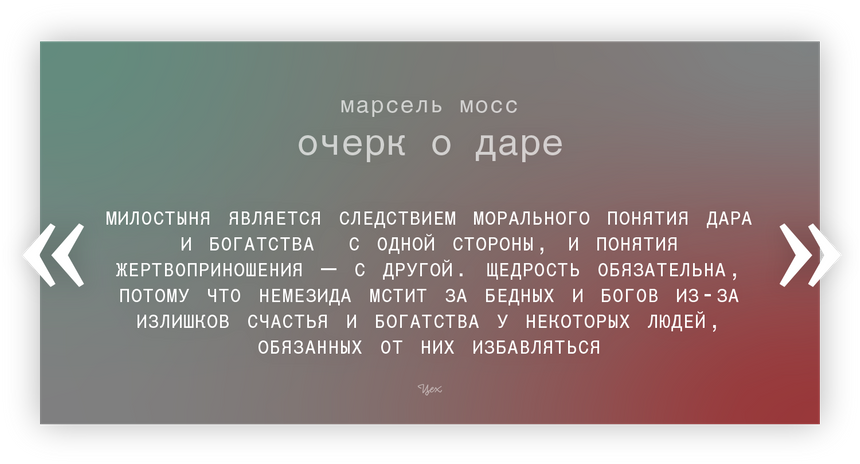
«Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера», Юрий Слезкин
В моей научной биографии однажды случился перерыв на несколько лет, и я даже не была уверена, следует ли мне возвращаться. В период невеселых раздумий мне в руки случайно попала эта книга. Я помню, как читала ее, когда лежала в больнице вместе со своей пятилетней дочерью, и не могла оторваться. Честно говоря, история взаимоотношений российского государства с малыми народами Севера находится довольно далеко от круга моих научных интересов. Но книга Юрия Слезкина так увлекательна, что походит на какой-нибудь исторический роман с триллерно-детективной канвой. Она влила в меня силы и вселила надежду самим фактом своего существования: мне очень захотелось вернуться в мир, где пишут такие прекрасные научные работы, и попробовать вновь стать его частью.
Только полезные посты и сторис — в нашем Instagram