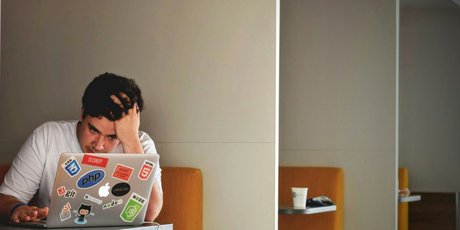Многим знакома ситуация, когда во время ожидания утреннего поезда в метро в голове невольно проносится мысль: «А что будет, если я сейчас спрыгну?» Водитель авто задумывается о последствиях лобового столкновения, а любитель готовить — о том, что произойдет, если он приложит ладонь к плите. Если вас тоже посещали внезапные мысли о том, чтобы нанести вред себе или кому-то другому, не спешите переживать — у науки уже есть объяснение интрузивным мыслям (именно так они называются). Мы обратились к психологу Дарье Шейко и психиатру Валерии Намаконовой, чтобы разобраться, в каких случаях мысли о смерти и боли нормальны, а в каких — нет.
Как устроены навязчивые мысли
Импульсивное желание причинить вред себе или другому существу в психологии называют «зовом пустоты» (перевод французского выражения «l’appel du vide»). Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу. Одни считают, что подобный импульс — неверно истолкованный сигнал безопасности, и что на самом деле мозг в этот момент исключает потенциальные опасности, прося человека не совершать подобных действий. Другие же, наоборот, склонны думать, что зов пустоты — разновидность суицидальных мыслей и повод бить тревогу.
Необъяснимое желание прыгнуть в пропасть может быть совершенно разным по своей сути. В каких-то случаях оно совершенно безопасно, в других — уже становится «звоночком».
Самая легкая форма рассуждений о неизбежном — это тревожные мысли. Именно к этой категории стоит относить зов пустоты. Их легко распознать по формулировке «А что если…?». Это чувство сродни любопытству и рассуждения о смерти здесь скорее ситуативны. Человек с тревогой рассуждает о потенциальной опасности, но не предпринимает никаких действий, угрожающих или мешающих его жизни.
Навязчивые (интрузивные) мысли схожи с тревожными, однако их концентрация гораздо выше. Они звучат как радио: безостановочно и бесконтрольно. Зачастую такие размышления могут причинять человеку боль, так как противоречат его сознательным установкам. Например, это мысли о возможной смерти близкого человека или невольные проклятия и оскорбления в его адрес.
Интрузивные мысли посещают многих нейротипичных людей, которые не наблюдаются у специалистов с какими-либо диагнозами. В 1993 году американская исследовательница и профессор Кристин Пурдон провела анкетирование на тему интрузивных мыслей среди 293 студентов (193 женщины, 95 мужчин), не имевших диагностированных проблем с ментальным здоровьем. Больше половины опрошенных — как мужчин, так и женщин, — хотя бы раз ловыли себя на том, что, например, думают въехать на встречную полосу. Многим приходили мысли об оскорблении незнакомого человека или члена семьи, прыжке с большой высоты и так далее.
Такие спонтанные размышления могут существовать как в рамках нормы, так и выходить за ее пределы. У любых навязчивостей тревожная природа, и зачастую они обусловлены какими-то жизненными изменениями. У недавно родившей женщины на фоне сдвига гормонального фона могут появиться навязчивые мысли по поводу ребенка, у человека, пережившего потерю, — навязчивые мысли о смерти.

Третья и самая опасная категория — суицидальные мысли. Это не просто рассуждения о смерти, а конкретный план. При этом человек может не осуществлять задуманное, но его готовность к действию гораздо выше, чем у тех, кто страдает от тревожных или навязчивых мыслей.
Суицидальные мысли на фоне навязчивых выглядят более естественными. Они возникают из-за патологий, когда критическое мышление ослаблено и человек не может отличить норму от отклонения. Это состояние — явный признак проблемы. Мысли о смерти здесь опасны и требуют вмешательства специалиста.
Зачем мы думаем о смерти
Вопрос о том, почему люди вообще думают о смерти, относится скорее к философии, нежели к медицине. Смерть — необратимый, неизбежный процесс, находящийся вне рамок нашего контроля и понимания.
Первое осознание смерти как явления происходит еще в детстве, примерно в 5-8 лет. В этом возрасте мысли не пугают ребенка, а скорее вызывают любопытство и интерес. Страх придет позже, вместе с осознанием недолговечности жизни — как своей, так и окружающих.
Паника, тревога, ужас — всё это абсолютно естественные реакции неокрепшей психики на смерть, связанные с инстинктом самосохранения. Однако негативные пугающие мысли могут закрепиться. Например, если ребенок столкнулся со смертью близкого в раннем возрасте или кто-то из родственников напугал его страшной историей. Подобное также происходит у высокочувствительных, мнительных и тревожных детей. Для них мир — источник опасности, к которой нужно постоянно «готовиться».

Взрослые же люди не думают о смерти постоянно, так как мозг блокирует подобные мысли. Обычно рассуждениям о быстротечности жизни предшествует какой-то триггер — например, новость о чьей-то кончине. Особый масштаб эти мысли могут приобрести на фоне экзистенциального кризиса, когда человек начинает задаваться вопросами о смысле и назначении собственного существования.
Дилемма часто возникает на фоне больших жизненных изменений, потери близкого человека или осмысления собственной смертности. Экзистенциальный кризис во многом схож с депрессией. Это такой же психологический спад, который возникает из-за невозможности найти ответы на вопросы о смысле своей жизни. Распознать его можно по ряду признаков:
- ощущение беспомощности, отчаяния и бессмысленности жизни
- неуверенность в себе и своем выборе
- страх
- тревога
- одиночество и пр.
Экзистенциальный кризис не является психологическим расстройством. Скорее это жизненный этап переоценки ценностей, на фоне которого неизбежно меняется отношение к смерти.
Как проверить себя
Думать о смерти — нормально. Проговаривая свои страхи, мы снижаем их значимость. Однако при регулярном появлении таких мыслей стоит задать себе вопрос: «Насколько часто я об этом думаю и насколько болезненны для меня эти рассуждения?». В то время как для одного человека невинный зов пустоты не представляет никакой опасности, другому он может доставлять несоизмеримый дискомфорт. Поэтому руководство одно: ориентироваться на свои ощущения.
Точно так же нормально временно испытывать одержимость некой мыслью или возможностью совершить действие. Однако если навязчивые мысли мешают жить, пугают или просто регулярно становятся стоит обратиться к специалисту. Он поможет найти природу патологии и разрешить проблему.
Важно также понимать, к кому и с какой проблемой обращаться. Психолог — это специалист, работающий с психически здоровыми людьми. Он изучает поведение людей и сопутствующие ему процессы. Психолог поможет пережить травматическое событие, принять сложное решение, преодолеть кризис и разобраться в отношении к себе и окружающим.
Психиатр — это врач с высшим медицинским образованием, работающий с патологическими состояниями. Если психолог воздействует без помощи медикаментов, то лекарства в психиатрии — основной инструмент решения проблемы.
Оба специалиста четко видят грань, где заканчивается их поле деятельности. Психолог поможет в борьбе с тревогой и стрессом, а с навязчивостью и суицидальными мыслями стоит обратиться к психиатру, так как такое состояние может быть симптомом заболевания. Но не бойтесь обратиться не по адресу — при необходимости специалисты всегда сориентируют и перенаправят.