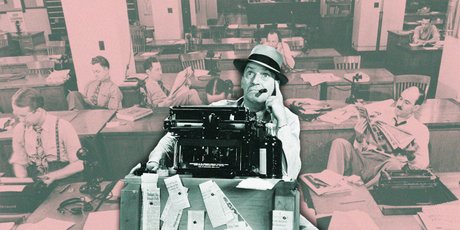С тех пор как в жизни Фамиля Велиева появился проект «Русский как родной», не проходит и дня, чтобы он не получил от читателей, или знакомых, или друзей, или даже коллег по театру какой-нибудь очередной вопрос, касающийся русского языка, почти всегда неожиданный, любопытный, требующий вдумчивого ответа.
Вот, например, на позапрошлой неделе, подходит ко мне доктор Евгений Сергеевич Дорн из чеховской «Чайки» — в гримёрной комнате во время антракта — и говорит:
«Фамиль… Послушай… Меня уже давно терзает вопрос… — В одной руке он крепко сжимает коричневую шляпу, в другой — врачебный саквояж. Напряжён. Решителен. Вид и тон этого крупного артиста не внушают спокойствия. Я выпрямляюсь в ожидании вопроса. Так… Где я напортачил? Чем виноват? — Послушай, Фамиль… Глагол победить… А почему нельзя сказать победю?.. Или побежу?.. Нет, я знаю, как надо: одержу победу или, там, выиграю… Но почему нельзя сказать победю?..»
Я, честное слово, кинулся бы обнять доктора, если бы он не был в эту минуту так крепко и хмуро сосредоточен на занимающем его вопросе:
«Нет, ну всё-таки… Почему нельзя сказать победю?.. Что за запрет?..»
Обожаю!
Если б вы знали, как я обожаю эти вопросы, список которых в заметках айфона растёт быстрее, чем я успеваю ответить. Как же они меня вдохновляют! Перечитывая их, я осознаю, что поиск темы для новой колонки для меня как автора отныне сча́стливо не существует.
С ответа на первый — уже заявленный — вопрос я и начну сегодняшнюю колонку.
Почему нельзя сказать победю?
«“We shall overcome, we shall overcome…» — снова потихоньку напевал Серёжа Лачугин, вспоминая ту ленинградскую ночь сейчас в сибирской тайге, отделённой таким огромным расстоянием от его детства. Оно, это недавнее детство, казалось далёким прошлым. «А ведь по-русски нельзя сказать от первого лица единственного числа: «Я побежу…» или «Я победю…»», — подумал Серёжа. — Грамматика сопротивляется. Может быть, одному вообще победить невозможно? Только всем вместе» [Евгений Евтушенко. Ягодные места (1982)].
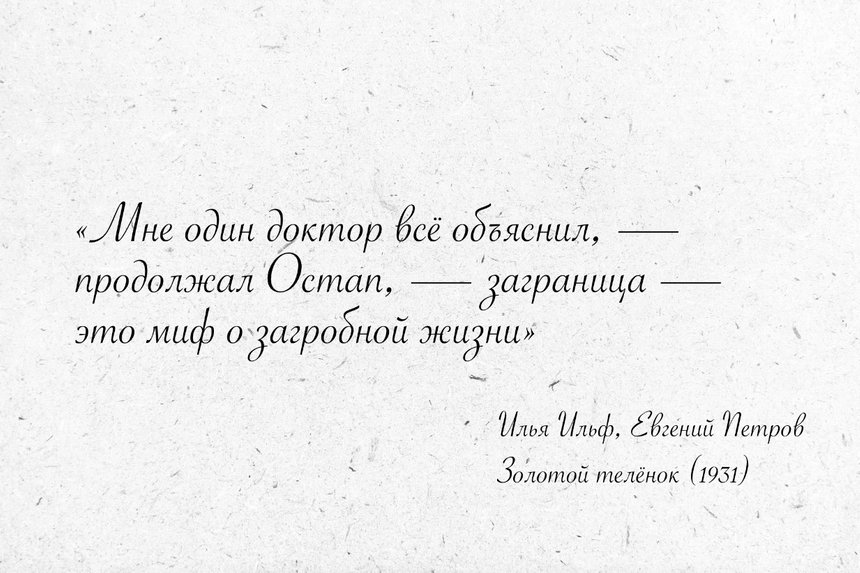
На самом деле сопротивляется вовсе не грамматика. Починить — починю, посадить — посажу, подойти — подойду. Грамматика как раз говорит: «Добро! Победю, побежу, побежду! Выбирай что хочешь!» Сопротивляется литературная норма: «Нет. Нельзя. Это неправильно. Нехорошо». — «Почему неправильно? Почему нехорошо?» — «А вот просто нехорошо, и всё. Неблагозвучно. Лучше говорите: одержу победу, смогу победить».
Внятного ответа, к сожалению, нет — во всяком случае, я его не нашёл, — есть лишь громоздкий лингвистический термин для описания существующего факта. Явление, при котором определённые формы некоторых слов (победить — побежу, очутиться — очучусь, убедить — убежу) потенциально возможны, но не допускаются в системе языка, называется неполнотой (дефектностью) словоизменительной парадигмы.
Впрочем, Л. Н. Толстой в письме П. М. Третьякову от 16 июля 1894 г. пишет вот так: «Ну, да я знаю, что я не убежу вас, да это и не нужно», то есть плюет, как видите, на неполноту (дефектность) словообразовательной парадигмы. Может, и нам можно? Или что позволено Юпитеру, то не позволено быку?
Похудение или похудание? Как правильно?
Эти слова происходят от разных глаголов. Похудение — от глагола похудеть, похудание — от глагола похудать.
Глагол похудеть стилистически нейтрален, чего не скажешь о глаголе похудать.
Похудать используется либо как просторечный сининоним похудеть, либо в том случае, когда речь о болезненной потере веса:
«На что вы похожи стали? Похудали, не пьёте, не кушаете, не спите, а одно только и делаете, что кашляете…» [А. П. Чехов. Безотцовщина (1878)].
Таким образом, стилистически нейтральным будет существительное похудение, слово похудание имеет резкий разговорный оттенок или намекает на нездоровое снижение веса.
«Как врач и как мужчина, я тебе скажу, Риммочка, с полной ответственностью: всякий орган от упражнения растёт, а не уменьшается. Никто ещё не худел от бега. От бега только потели. А чтобы похудеть, надо, миленькая, хлебца не есть, от этой картошечки, которую ты пожираешь, отказаться. — За всеобщее похудение! — поднялся с рюмкой в руке коротенький стокилограммовый Драгомир Пенальтич, поэт сербского происхождения. Все засмеялись и выпили. Под картошку со шпротами хорошо пошёл разговор о голодании» [Сергей Юрский. На дачах (1974-1983)].
Хлебцы́ или хле́бцы? Как правильно?
«Спрашиваю в магазине: „У вас есть гречневые хле́бцы?“ — „Что?“ — „Гречневые хле́бцы? Рисовые вижу, а гречневых нет“. — „А-а-а… Хлебцы-ы́-ы!.. Поняла. Нету“. Да уж… Меня, дуралея, раньше исправляли так только в кофейнях: „Ла́тте, пожалуйста, с собой“. — „Ммм… — Снисходительная улыбка. — Что-нибудь ещё, кроме латте́?“ — „Нет, спасибо, только ла́тте!“ Теперь за орфоэпический ликбез взялся и новый продуктовый под домом».
Это мой пост в фейсбуке от 5 апреля 2019 г. За полгода ничего не изменилось, просто теперь я стараюсь покупать хле́бцы молча. Если нет на прилавке, нечего и спрашивать, значит, их нет.
Правильно, в общем, говорить хле́бцы, один хле́бец. Но вы когда-нибудь слышали, чтобы так говорили, ну вот честно? Я — нет. Только от самого себя… Все остальные говорят хлебцы́, хлебе́ц, и, чует моё сердце, норма не выдержит и таки падёт.
Пара очков? Пара брюк? Так можно говорить?
Можно всё, правда, это не совсем правильно.
Слово пара используется для обозначения двух однородных или одинаковых предметов, употребляемых вместе и составляющих одно целое: пара чулок, пара носков, пара ботинок.
Однако в разговорной речи словом пара называют также один предмет, состоящий из двух одинаковых, соединённых вместе частей: пара брюк, пара трусов, пара штанов, пара ножниц, пара очков.
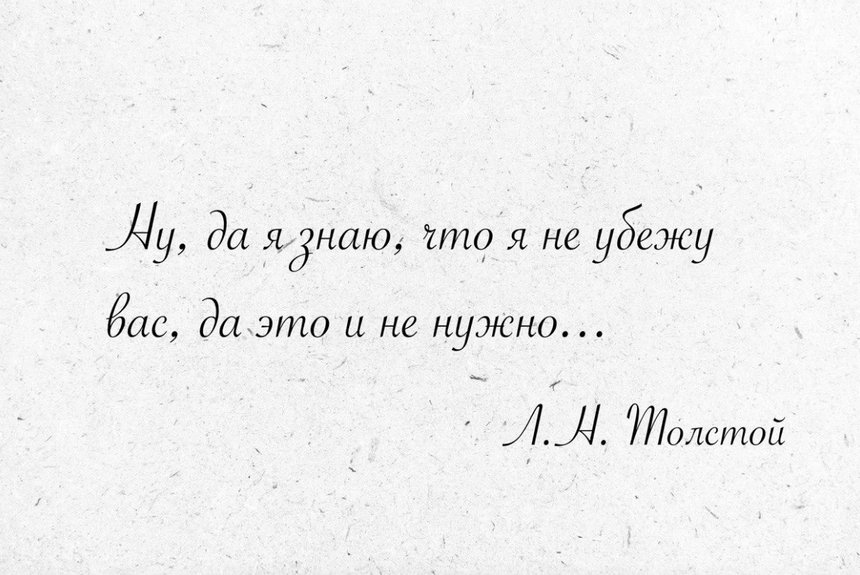
Это всё возможно в разговорной речи, но, строго говоря, неправильно. К тому же словосочетание пара брюк может ввести в заблуждение. О каком количестве предметов речь? Об одном или двух?
Поэтому лучше говорить одни брюки, одни очки и, соответственно, двое брюк, трое брюк, двое очков, трое очков и т. д.
«И одеться ему было не во что: один вицмундир и двое брюк, из которых одни нанковые для лета, ― вот весь его гардероб» [И. А. Гончаров. Обрыв (1869)].
За границей или заграницей? Раздельно или слитно? Как правильно?
Перед нами две разные части речи.
За границей — это наречие, которое образовалось от существительного граница в творительном падеже с предлогом за. Наречие это используется в значении ‘за рубежом, в иностранных государствах, за пределами родины’, пишется раздельно, отвечает на вопрос где? и выполняет в предложении функцию обстоятельства.
«Чего я там не видел, — сказал разведчик, — поеду в Сыктывкар. — Ну, как хочешь. Может, ты и прав. Во-первых, ты, брат, лысоватый и потому не можешь вполне достойно представлять наш народ за границей. Ещё, чего доброго, подумают, что в СССР все лысые. К тому же языков, поди, не знаешь. А ведь они там, как сбесивши, все не по-русски шпарят [Сергей Довлатов. Ослик должен быть худым (Сентиментальный детектив) (1980)].
А вот заграница — это существительное, образованное от исходного слова граница присоединением приставки за-, используется в значении ‘иностранные государства, чужие страны’, отвечает на вопросы что? чего? чему? и т. д., в предложении выступает в качестве подлежащего или дополнения.
«Мне один доктор всё объяснил, — продолжал Остап, — заграница — это миф о загробной жизни» [Илья Ильф, Евгений Петров. Золотой телёнок (1931)].
«На площадке стояли какие-то личности, которые, по-видимому, не прочь были завязать разговор. Чтобы поставить их на место, Жан начал говорить о загранице. Они сразу поняли, кто перед ними, и замолчали» [Н. А. Тэффи. Из весеннего дневника (1910)].
А вот существительное заграница в творительном падеже:
«Ведь и для нас всех в СССР долгое время Грузия и была этой единственной заграницей, для поэтов особенно» [Андрей Битов. Пушкин ― русский европеец (1991)].
В художественной литературе довольно часто можно встретить слитное написание наречия за границей, однако это не соответствует современной орфографической норме.
…
На сегодня всё. Следующая колонка — ещё пять тем. Буду рад вашим новым вопросам.