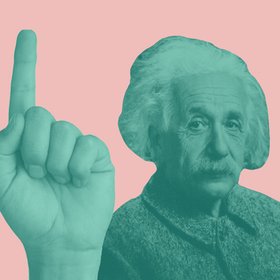В чем заключается секрет успеха? Одни считают, что главное — с детства уделять много времени учебе и идти к цели, другие уверены, что всё дело в везении. Популярный современный ученый Альберт-Ласло Барабаши решил применить научные методы, чтобы вывести настоящую формулу успеха. «Цех» публикует отрывок из его книги «Формула. Универсальные законы успеха», которая недавно вышла в издательстве «Альпина Паблишер».
Ошибка Эйнштейна. Почему усердная работа вкупе с навыками в итоге приводит к победе
Я неизбежно анализирую свои провалы и успехи в свете проводимых исследований. Сумрачными зимними днями в Бостоне, шагая в свою лабораторию по обледеневшему тротуару, я снова и снова оцениваю свои заслуги и свои шансы. Дело в том, что наука стала для меня неожиданным путешествием по извилистой дороге, которая всего за двадцать лет привела меня из мира физики к сетям, а затем и к науке успеха. На заре своей карьеры мои студенты и постдоки радуются, глядя на открывающиеся перед ними возможности. Работая с ними, я отдыхаю душой и вспоминаю, зачем вообще пришел в академическую среду.
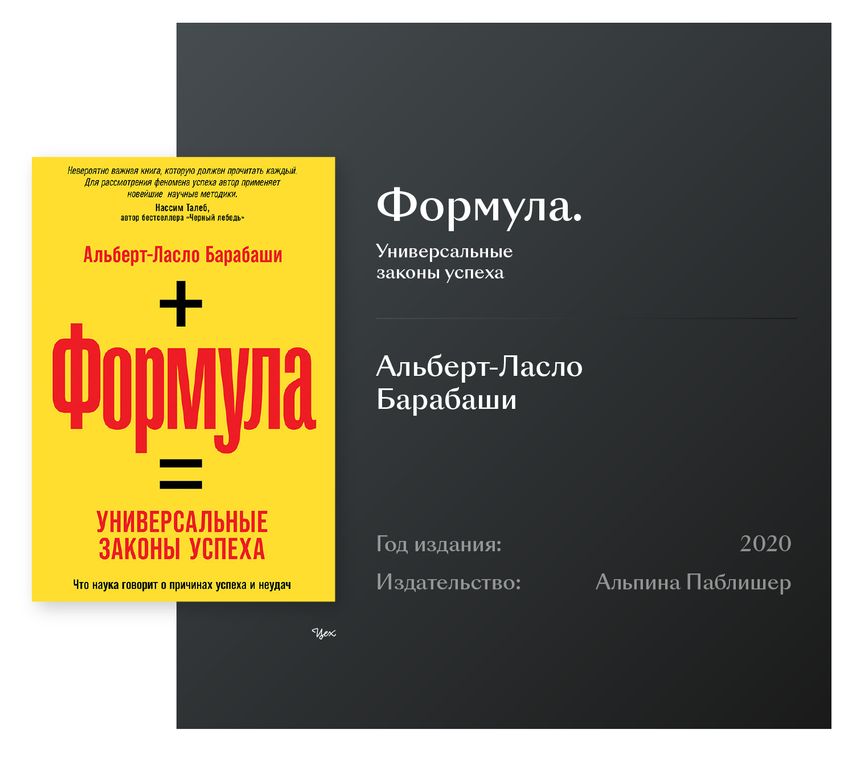
Однако моя судьба предельно ясна — и это подтверждается результатами многочисленных исследований. Дело в том, что инновации и открытия — дело молодых. Описавший теорию относительности в нежном возрасте двадцати шести лет Эйнштейн сказал об этом прямо: «Если человек не сделал великого вклада в науку до тридцати лет, он уже никогда его не сделает».
Это ощущение «балласта», которое маячит на заднем плане. Идут годы, на смену одним молодым исследователям приходят другие, и это склоняет к лирике даже физиков. Поль Дирак, который, как и Эйнштейн, получил Нобелевскую премию за открытие, которое сделал до тридцати лет, описал его в печальном четверостишии:
А возраст — главный неприятель,
Что может физику грозить.
Когда приходит год тридцатый,
Уж лучше мертвым быть, чем жить.
Хотя Дирак не последовал собственному совету и опубликовал последнюю статью незадолго до смерти в восемьдесят четыре года, его посыл понятен. Они с Эйнштейном не ошибались, ведь данные свидетельствуют, что ученые, как правило, публикуют прорывные работы на заре своей карьеры. К такому выводу мы приходим, изучая жизнь признанных гениев. Например, психолог Дин Кит Саймонтон проанализировал карьерный путь более чем 2000 ученых и изобретателей со времен Античности по сей день, включая таких светил, как да Винчи, Ньютон и Эдисон. Он обнаружил, что большинство из них вписали свое имя в историю до тридцати девяти лет или примерно в тридцать девять, и это наблюдение подтвердило широко распространенное мнение, что творчество — удел молодых (или хотя бы людей раннего среднего возраста). Обратившись к карьерам художников и писателей, Саймонтон увидел, что и они довольно рано совершали прорывы. Вне зависимости от сферы и жанра новаторство — то топливо, которое заставляет меня вставать по утрам и приходить в лабораторию, — казалось не столь действенным для тех из нас, кто был старше и устал от рутины, а потому нуждался в нем больше всего.
Неужели мы неизбежно теряем свою силу с возрастом? Я часто задавался этим вопросом. Посмотрите, как я беру выходной в надежде «расслабиться», и вы поймете, почему меня это беспокоит. К счастью для меня — и всех, кому придется смириться с моим ранним уходом на пенсию, — наше исследование обнажает глубокий парадокс, который дарует мне истинную надежду: нам, старикам, не стоит списывать себя в утиль. Дело в том, что креативность не имеет возраста. Хотя Эйнштейн и Дирак не ошибались, утверждая, что большинство открытий делается молодыми, совершить карьерный прорыв можно в любой момент.
Если вы запутались, не переживайте. Сначала ничего не понял и я. На решение сложнейшей, на первый взгляд, загадки о новаторстве и возрасте у меня ушло целых пять лет.
***
Какими бы любопытными ни были исследования Саймонтона, я видел в них огромную проблему. Его работа посвящена гениям, крошечному сегменту творческого племени — восхитительным, в высшей степени достойным людям, которые, раз уж на то пошло, встречаются крайне редко. Возникают важные вопросы: применимы ли выводы Саймонтона к обычным ученым, таким как я и мои седеющие коллеги и соавторы, которым, вероятно, уже не стать гениями? Применимы ли они к людям других профессий, с которыми я взаимодействую каждый день? Стоит ли мне уйти от своего врача, просто потому что он уже преодолел свой интеллектуальный пик? Стоит ли мне отказать опытному архитектору в пользу молодого в надежде, что новичок предложит новые, прорывные идеи за чертежным столом? Стоит ли стартапам Кремниевой долины придерживаться негласного правила нанимать зеленых юнцов вместо опытных, но уже немолодых специалистов? Иными словами, значат ли исследования о гениях хоть что-то для нас, простых смертных?
Именно эти вопросы мы подняли с Робертой Синатрой, которая пришла в мою лабораторию в 2012 году. Молодая сицилийка, Роберта начала свою карьеру с физики, но в конце концов пришла на позицию постдока в сетевую науку. Сразу после ее появления стало понятно, что у нее есть все необходимое, чтобы добиться успеха с помощью усердной работы. Роберта заражала всех энтузиазмом, мотивируя множество сотрудников лаборатории на решение сложных задач. Она великолепно готовила и умела налаживать связи, собирая людей за ужином у себя за столом. Несомненно, обсуждать нюансы сетевой теории за тарелкой спагетти, приготовленных по старинному семейному рецепту, гораздо проще, чем в офисной переговорной. Как на кухне, так и в лаборатории она умела заставить сложнейшие проблемы казаться обманчиво простыми.
Нам с Робертой было любопытно, как возраст влияет на карьеру людей, которые не становятся суперзвездами. Учитывая тенденции, которые мы наблюдали в исследованиях прославленных ученых, могли ли мы предсказать периоды творческой активности для рядовых слуг науки, делающих скромный, но важный вклад во всевозможные сферы, от биологии до информатики? Мы начали с простого вопроса: на каком этапе своих карьер мы публикуем самые важные статьи?
Порой ответить на простейшие вопросы сложнее всего. Так произошло и в нашем случае. Нам пришлось в точности восстановить карьеры десятков тысяч ученых, определяя принадлежность статей из списка, содержащего около 40 миллионов публикаций. На это ушло примерно два года — и огромную помощь нам оказал специалист по компьютерным наукам Пьер Девилль, также работавший в нашей команде. Когда мы наконец справились с задачей и смогли проанализировать карьеру каждого из ученых в отдельности, мы заметили закономерность.
Успешными, как правило, становились исследования, которые проводились на относительно ранних этапах карьеры — в первые двадцать лет с начала работы в соответствующей сфере. Если быть точным, вероятность публикации лучшей статьи ученого в первые три года карьеры составляла около 13 процентов. Примерно такой же была вероятность опубликовать свою лучшую статью в следующие три года. Фактически на протяжении двадцати лет ученый каждый год имел одинаковые шансы сорвать джекпот. Однако спустя это время наблюдалась перемена: шансы ученого резко снижались. Вероятность публикации самой цитируемой статьи на двадцать пятом году карьеры составляла всего 5 процентов и продолжала стремительно падать. Я приближался к тридцатому году научной деятельности — каковы были шансы, что я еще сделаю открытие, которое затмит мою предыдущую «лучшую» работу? Согласно нашей кривой, они составляли менее 1 процента. Иными словами, мне можно было перестать пытаться. Одного взгляда на данные было достаточно, чтобы понять, что я теперь мертвый груз. Не стоило и думать о штатной должности — проректору пора было показать мне на дверь.
Получается, Саймонтон был прав. Его выводы применимы и к тем из нас, кто не стал гением, но пошел в науку из любви к ней и не свернул с пути, день ото дня работая и не мечтая почивать на лаврах. Результат анализа был очевиден: гении совсем не отличаются от нас, когда речь заходит о пиках креативности. Мы тоже достигаем пика на ранних этапах карьеры. Мы тоже теряем хватку, когда креативность начинает идти на спад. Гении или нет, мы подчиняемся одним закономерностям.
***
Однако, к моему облегчению, этот вывод — что я вполне могу накупить гавайских рубашек, переехать во Флориду и заняться гольфом — был основан на неполном прочтении данных. Изучая причины ранних творческих инноваций, мы наткнулись на нечто неожиданное. Да, вероятность прорыва резко снижается после двадцати лет работы в одной сфере. Но важно, что снижается и продуктивность. Оценив количество статей, которые ученые публикуют на протяжении своей карьеры, мы увидели, что они гораздо более продуктивны в начале пути. Кривая вероятности публикации самой важной работы и кривая вероятности публикации любой работы повторяли друг друга так точно, что мы не могли отличить их друг от друга. Такое нельзя было объяснить случайностью. Нам нужно было понять, что за этим стоит.
Несколько месяцев мы гадали, как объяснить связь между продуктивностью и вероятностью успеха. Я жаворонок — мне лучше думается утром, — поэтому я вставал на рассвете, чтобы изучить новые данные и отправить возникающие вопросы Роберте и ее команде. Днем мы обсуждали свои соображения, и я снова и снова спрашивал: «Что это на самом деле значит для меня? Неужели мой мозг уже мертв?» Роберта, истинная сова, в те же месяцы копалась в Google Scholar, изучая историю цитирования ученых, которые ее восхищали. На кого бы она ни посмотрела — хоть на лауреатов Нобелевской премии, хоть на относительно безвестных ученых, с которыми она работала прежде, — у всех них было кое-что общее: их влияние со временем возрастало. С каждым годом каждый из них набирал все больше цитат.
Возрастало даже влияние таких ученых, как Ньютон, Кюри, Эйнштейн и Дирак, а все они давно умерли. Их работы цитировались снова и снова, словно они были живее всех живых. Затем Роберту осенило. Она задумалась: в чем разница между успехом живых и умерших ученых?
Ответ таков: живые ученые сохраняют продуктивность. Ньютон, Эйнштейн и Кюри не могут двигать науку из могилы. Они не предлагали новых идей десятилетиями и даже веками. При этом мы не перестаем восхищаться их наследием. Несмотря на то что производительность их труда после смерти равняется нулю, их влияние, измеряемое количеством ссылок на их работы, растет с каждым днем. Чтобы изучить взаимосвязь между продуктивностью и успехом, решила Роберта, яблоки нужно сравнивать с яблоками, не пытаясь при этом сравнить живые яблони с умершими. Мы сменили объект нашего исследования на ученых, которые уже вышли на пенсию, чтобы можно было изучить всю их карьеру, а не только истоки.
Ночное озарение Роберты помогло нам по-новому взглянуть на данные. Мы обнаружили, что можем увидеть взаимосвязь продуктивности и успеха, расставив опубликованные работы каждого ученого в хронологическом порядке. Вместо того чтобы сопоставлять каждую статью с возрастом автора на момент ее публикации, мы просто присвоили ей порядковый номер в рамках карьеры ученого. Сделав это, мы смогли объективно взглянуть на публикации, каждая из которых была очередной попыткой совершения прорыва.
Мы ожидали увидеть, что самые важные статьи ученых будут одними из первых в их карьере, ведь именно об этом говорили нам результаты многолетних исследований работы гениев. Как ни странно, все оказалось иначе. Каждая статья — будь она хоть первой, хоть второй, хоть последней в карьере ученого — имела одинаковые шансы оказаться самой важной. Взглянув на данные под таким углом, мы немало удивились. Похоже, возраст не имел значения.
В связи с этим возникал новый вопрос. Если моя креативность не имеет срока годности, а каждая из моих статей получает одинаковые шансы стать прорывом, то почему все мы — хоть гении, хоть обычные люди — достигаем пика на заре карьеры?
Дело было в продуктивности.
Объяснить этот, на первый взгляд, парадоксальный вывод поможет простая аналогия. Допустим, тридцать лет подряд вы каждый год в свой день рождения покупаете лотерейный билет. С возрастом ваши шансы выиграть приз не повышаются. Впрочем, они и не падают. Сегодня они такие же, как и пять лет назад, и десять лет спустя они останутся неизменными. Но что, если в свой тридцатый день рождения вы купите тридцать лотерейных билетов? Если вам вообще суждено выиграть лотерею, велики шансы, что это случится именно тогда. Наши оценки показали, что научные статьи сродни лотерейным билетам в жизни ученого. Каждая из них имеет равные шансы на успех. В результате успех приходит к исследователю в тот период, когда его работы публикуются чаще всего — когда он завершает проект за проектом без передышки. Дело не в том, что на пике активности ученые более креативны, а в том, что они просто совершают больше попыток.
Всплеск продуктивности большинства ученых приходится на первые два десятилетия профессиональной жизни. Окончив университет, мы в первые годы беремся за новые проекты с огромным энтузиазмом. Затем, десять или двадцать лет спустя, наша продуктивность постепенно снижается. То же самое происходит и в других творческих сферах. Появляются новые возможности, которые заставляют нас покинуть работу, студию или лабораторию. Мы сталкиваемся с кризисом среднего возраста. Наши дети попадают в передряги, а стареющие родители требуют внимания. Мы выгораем, отвлекаемся, наши приоритеты смещаются, а темпы работы падают. Иными словами, ближе к концу карьеры люди покупают меньше лотерейных билетов, а потому реже выигрывают.
Итак, проанализировав данные иным образом, мы обнаружили, что новички гораздо чаще совершают прорывы не потому, что молодость — синоним креативности, а потому, что их продуктивность выше. Не пугаясь ни равнодушия, ни провалов, молодые снова и снова пытаются преуспеть. Именно поэтому ученые публикуют самые важные работы между тридцатью и сорока годами, многие художники пишут лучшие картины между двадцатью и тридцатью, а многие композиторы, кинорежиссеры, инноваторы и модельеры совершают прорыв на заре карьеры.
Как ни странно, это хорошая новость для тех из нас, кто уже обзавелся морщинами, и тех из вас, кто обзаведется ими в будущем. Креативность не имеет срока годности, если мы продолжаем покупать метафорические билеты и показывать свои работы миру. Пятый закон успеха прост:
При упорной работе успех может прийти в любой момент.
Анализируя данные, я едва мог сдержать свою радость. Когда мы начали изучать взаимосвязь успеха и продуктивности, по дороге домой из лаборатории я всегда был полон сил и новых идей. Свою роль играло и то, что прогресс в нашем исследовании наметился в начале лета, когда солнце вообще как будто не заходит за горизонт, а когда все же садится, расцвечивает бескрайнее небо яркими красками. Моя радость была глубоко личной, ведь продуктивность всегда была моей сильной стороной. Теперь я увидел, насколько ценным активом обладал всю жизнь. Повторяя пятый закон как мантру, я стал работать вдвое усерднее, превосходя даже самого себя в молодости. Сегодня я знаю, что каждая публикуемая статья представляет собой новый лотерейный билет, а каждый билет дает возможность совершить прорыв. Нам пришлось проанализировать несколько тысяч карьер ученых, чтобы понять мою, но все оказалось очень просто.