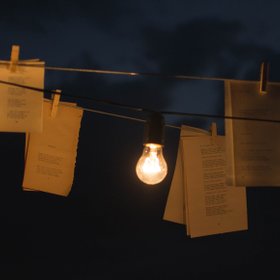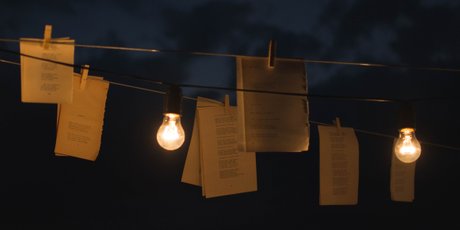Да-да, знаем, это звучит дико, но некоторые считают фанфиками пьесы Шекспира и «Энеиду» Вергилия. О сказках и мифах, переходящих из уст в уста, вообще молчим. В книге «Фанфики. Истории для тех, кто не хочет прощаться» Аш Пендрагон исследует феномен фанфикшена и пытается проследить его исторические корни. С разрешения издательства МИФ публикуем отрывок из книги. Возможно, он убедит вас, что фанфики — тоже литература.
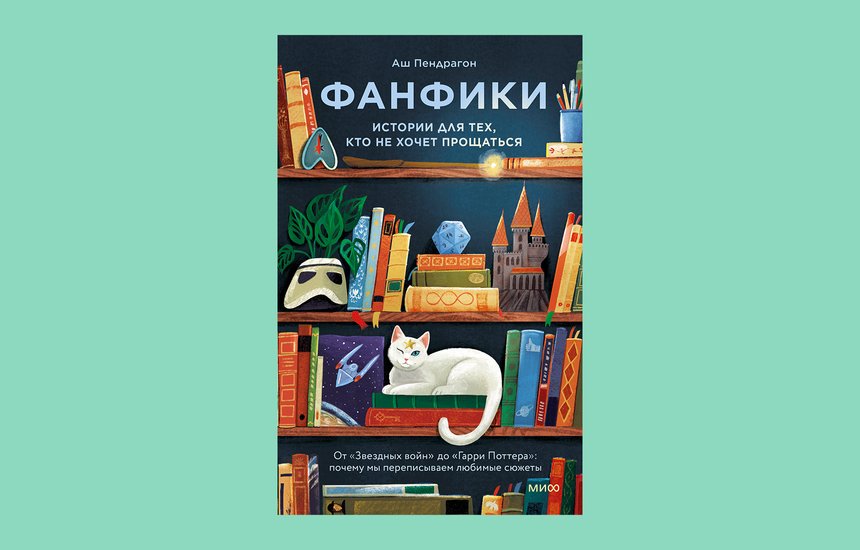
Появление фанфикшена в современной поп-культуре имеет огромное количество предпосылок. Если само явление, которое называют фанфиками, появилось только в XX веке, то что было до? Общепринятое определение фанфика звучит примерно так: художественное литературное произведение, которое расширяет, комментирует, критикует существующее медиапроизведение. Журналистка Кристина Буссе предлагает называть фанфиком то, что находится только внутри фанатского сообщества. Но многие другие авторы с ней не согласны, хотя есть определенная сложность и даже ирония в том, что многие классические произведения вдруг попали под понятие фанфикшена.
Если отбросить то, что это именно фанатское творчество, но сохранить концепцию переосмысления произведения, событий, персонажей, то окажется, что идея вариативности сказок и мифов будет очень этому близка. Имена и произведения, рассмотренные в данном разделе, разумеется, не то же самое, что современные фанфики, но все они важны для понимания причин, по которым сформировалась нынешняя культура.
Передаваясь из уст в уста, истории менялись, обрастали новыми деталями, персонажи появлялись и исчезали, а романтические сюжеты могли закончиться как свадьбой и «долго и счастливо», так и тем, на что сейчас повесили бы предупреждение о грустном финале или смерти героя. По сути, главным является то, что и сказку, и фанфик нельзя воспринимать исключительно с точки зрения научной классификации. Лучше вспомнить слова Юнга, который отмечал, что эмоциональное переживание и эмоциональный опыт являются для человека важными в понимании архетипического образа. И для фанфика это столь же справедливо, как для сказки или мифа.
Всеобщая грамотность и современные способы распространения данных привели к бурному росту культуры фанфикшена. Можно ознакомиться с мифологией Индии, почитать турецкие сказки или страшные японские кайданы[1], не вставая с кресла. Например, для написания фанфика в сеттинге Древнего Китая автор обратится к источникам, которые помогут наиболее ярко и достоверно описать быт и культурные особенности. Зачастую без необходимости идти в библиотеку. Раньше люди занимались примерно тем же, только работая с объемами информации, которые были им доступны. Это включало в том числе переосмысление уже знакомых им историй.
Тяжело удержаться от соблазна наделить героев Троянской войны собственными чертами или приукрасить еще больше, доведя образ до того самого «краша»-идеала
Преподавательница латыни и греческого языка Рэйчел Ахерн Кнудсен в своей статье «Фанфики от пятого века до нашей эры» использует очень хороший, на мой взгляд, термин «преобразующая работа» для творческих отступлений и переработки исходного материала греческими и римскими авторами. Так, из «Илиады» или «Киприи» можно создать трагедии, переосмысляющие изначальный сюжет, фокусируясь на конкретном персонаже или сочетая разные части истории, то есть своего рода фанфики. Это совсем не оскорбительное название, с ним объяснение даже проще. Допустим, создатели трагедий — а это было то еще шоу с участием хора и скорбными плачами! — брали канон, эпос Гомера, и, как современные фикрайтеры, заимствовали оттуда какие-то моменты, переписывали их так, чтобы публике было интереснее: пропущенные сцены, POV-ы персонажей, альтернативные версии развития событий. Это называется адаптация, то есть перенос произведения из одной формы искусства в другую, хотя поэмы в Древней Греции были скорее песнями и передавались устно, а потому их постановки в театре стали более усовершенствованной формой. Представим, что поэма — аудиокнига с одним чтецом, а театральное действо — это целый аудиоспектакль. И у адаптации, и у фанфика одна и та же идея — переосмысление и трансформация исходного произведения во что-то другое.
Писать фанфики проще на базе произведений с богатым лором. Это вселенные, насчитывающие много книг в цикле, много фильмов, многочисленные выпуски комиксов и новые части игр. Для фикрайтера это просторная площадка для игры внутри канона произведения, где можно по-разному трактовать и видоизменять детали большого механизма. Для древних греков таким большим «фандомом» были произведения Гомера. Например, его персонажи использовались софистами, репетиторами по красноречию в Древней Греции, в качестве примеров для обучения. Некоторые из них — «Аякс и Одиссей», «Защита Паламеда» и другие — дошли до наших дней. Возможно, они использовались и в рекламных целях, так как сами гомеровские персонажи были довольно популярны, — как если бы сейчас какие-то платные курсы рекламировал персонаж рейтингового аниме или видеоигры.
«Илиада» и «Одиссея» тоже были своего рода фанфиками про исторических личностей или аналогами исторических романов, поскольку большинство исследователей склоняется к тому, что автор писал о событиях прошлого, о которых тоже откуда-то узнал. Современные ученые считают, что Гомер жил приблизительно в VIII веке до н. э., а писал о событиях, предположительно, VI века до н. э.
К. С. Льюис, не только автор «Хроник Нарнии», но и замечательный ученый-филолог, в своей работе «Первичный эпос» пишет о том, что разделение эпоса на первобытный и художественный является неверным. Он предлагает делить его на первичный и вторичный, поскольку ничто из сохранившейся античной поэзии не является по-настоящему первобытным: все эти произведения прошли художественную обработку. Более того, вся античная поэзия являлась устной, передаваемой с помощью голоса под музыкальное сопровождение. Поэмы эти часто были очень длинными и могли зачитываться разными чтецами, которые сменяли друг друга. Некоторые из произведений и вовсе не были никогда записаны, а значит, изменения при передаче от одного рассказчика другому были неизбежны. Кто-то хотел придать больше эпичности сцене, кто-то добавлял интимных подробностей. Но были и те, кто не просто передавал дальше, изменяя детали, но и оставил собственное великое наследие, изначально вдохновленное большим гомеровским «фандомом».
ВЕРГИЛИЙ
Одним из таких значимых авторов является Вергилий. Он в своей «Энеиде» не просто опирался на «Илиаду» и «Одиссею», а буквально написал продолжение. Таланта Вергилия нельзя отрицать: он действительно взял за основу сложный гомеровский материал и интерпретировал его так, чтобы сделать интересным и актуальным для своих современников. Впрочем, он, как и многие талантливые фикрайтеры, использовал элементы, которых у Гомера не было. «Энеида» представляет собой историю Энея, героя Троянской войны, который привел свой народ в Италию, став прародителем римских правителей. Помимо того, что произведение эпичное, Вергилий там воспевает и крутость римлян, например заявляя, что главное искусство Рима — править миром (VI, 851–853).
Помимо «Энеиды», Вергилий был известен своими стихами, которые также можно назвать своего рода фанфиками на произведения древнегреческого поэта Феокрита (III век до н. э.). А Феокрит, в свою очередь, переписал Полифема из гомеровской «Одиссеи» в персонажа с совершенно другим характером в своем произведении «Идиллия XI» (оно же «Киклоп»). Можно сказать, что он применил прием OOC, сделав его из жестокого злодея несчастно влюбленным в нереиду Галатею. Подобные заимствования — а Вергилий обращался как к греческим, так и к римским авторам, — были нормой и помогали поэту в его творчестве.
«ЭПОС О ГИЛЬГАМЕШЕ»
Еще одно интересное произведение, которое можно назвать макси-фанфиком, — «Эпос о Гильгамеше», одно из старейших литературных произведений в мире. Создавалось оно на протяжении полутора тысяч лет (примерно с XVIII–XVII веков до н. э.). Это объясняется тем, что «Эпос о Гильгамеше» сочетает в себе элементы шумерской мифологии и переработанные сюжеты о реальных личностях. Сам Гильгамеш (его имя точнее звучит как Бильгамес) — мифологизированный правитель шумерского города Урука. О существовании этого человека свидетельствует табличка, в которой перечислены шумерские правители. Сам же образ Гильгамеша мифологизировался позже. Если коротко, то его стали видеть крутым героем, защищающим людей от демонов. А весь эпос, точнее поэма «О все видавшем», — это истории о многочисленных приключениях этого героя, которые создавались и записывались разными авторами. Истории о реальной исторической личности превратились в целый «фандом», где новые работы появлялись на протяжении полутора тысяч лет. На таких примерах, как «Эпос о Гильгамеше», как раз и возможно отследить формирование культуры продолжения историй с одними героями, которые написаны разными авторами.
С этим же произведением связана еще одна любопытная тема — упоминание о Всемирном потопе. Бог ветра в шумерско-аккадской мифологии (он был почти как Аватар, овладевший всеми элементами, и управлял водой, воздухом, землей и бурями) Энлиль, как и подобает персонификации природы, насылал на людей бури и бедствия, а однажды и вовсе решил уничтожить человечество при помощи Потопа. Но герой Утнапишти (он же Утнапиштим, Зиусудра и Атрахасис) построил корабль, на котором вместе со своей семьей и животными спасся от бедствия. Когда вода схлынула, он стал как бы новым человеком и заново населил землю.
Свой миф о Потопе есть и у греков. Зевс, недовольный людьми, решает их уничтожить, но Девкалион и Пирра спасаются в крепком ящике. Помог им Прометей, который нередко представал в образе друга людей.
Исследователи полагают, что мифологическое наследие Месопотамии оказало влияние на верования древних эллинов и распространялось это влияние не через завоевания, а через торговлю. Вместе с товарами передавались и устные истории. Античная поэзия была устной, и здесь справедливо то же самое — истории передавались от одного рассказчика к другому, трансформируясь и адаптируясь. К счастью, мифы и сказания шумерского народа дошли до нас в виде глиняных табличек, статичные и неизменные, но представьте, сколько версий было до их записи клинописью и сколько передавалось позже устно.
Люди не сидели на месте: они путешествовали, торговали, а главное — общались, передавая таким образом и культурный опыт. Истории из шумерской культуры попали в иудейскую (то есть отразились после в Ветхом Завете) через взаимодействие народов. Например, считается, что Авраам, родоначальник еврейского народа, переселился из Ура, одного из древнейших шумерских городов. Вероятно, сыграло роль и вавилонское пленение (с 597 по 539 год до н. э.) — период в истории еврейского народа, когда насильственное переселение в Вавилонию способствовало формированию религиозно-национального сознания.
Книга Бытия формируется в том числе и на основе более ранних шумерских верований. Это влияние прослеживается не только в мифе о Всемирном потопе, но и, например, в мифе о возникновении женщины из ребра. На шумерском языке ребро будет «ти», что созвучно словосочетанию «давать жизнь» и является частью имени богини Нинти.
ШЕКСПИР
На Reddit мне попался забавный пост одного автора о том, как на уроках литературы он осознал, что, по сути, Шекспир тоже был автором фанфиков, поэтому планирует последовать этому примеру и построить жизнь по его образцу. Рассуждения забавные, но не лишены смысла. Взгляд через призму фанфикшена на самые известные имена в мировой литературе помогает увидеть их иначе. Они уже не кажутся недостижимыми гениями. И это хорошо! Можно даже сказать, что Уильям Шекспир, во многом благодаря сложившемуся в XVIII веке вокруг него самого и его произведений «культу Шекспира», стал одним из самых влиятельных и известных фикрайтеров в истории.
Личность Шекспира вообще окутана тайной. То ли это был псевдоним ряда авторов, то ли такой человек и правда существовал. Чем масштабнее личность, тем больше хочется видеть в ней что-то особенное. Но если мы «опускаем» Уильяма Шекспира до уровня автора фанфиков, разве меняется значимость его литературного наследия? Конечно нет, оно остается таким же большим и важным. Однако современный мир не только фанфикшена, но и любительской некоммерческой литературы в чем-то похож на эпоху Возрождения, когда заимствования считались нормой. Искусство того времени отражало общие культурные тенденции, включая стремление к знаниям.
Мне нравится итальянский термин varietà, «разнообразие», который упоминает Ю. П. Вышенская в своей работе, посвященной влиянию итальянских трактатов о литературе на английскую светскую литературу. Под ним понимается определенный стиль мышления, подразумевающий в том числе «незаурядную эрудированность». Получается, что сбор и переработка материала для создания нового произведения не считались в то время плагиатом. Это было естественным развитием искусства, преобразующим более ранние сюжеты в новые, актуальные для читателя и зрителя своей эпохи.
Шекспир является автором своей эпохи. Можно сказать, что сама эпоха Возрождения породила Шекспира. Значительные социальные, экономические и политические изменения в Англии повлияли на распространение языка, как устного, так и письменного. Проще говоря, чтобы понять новые идеи, люди должны были быть более грамотными. Латынь, как язык науки и творчества, отодвигалась в сторону, давая дорогу английскому языку как национальному. Хотя до всеобщей грамотности было еще далеко, но оформляющийся язык, полный заимствований и разных значений слов, существенно повлиял на английскую литературу в целом. Конечно, даже при отличном знании английского читать Шекспира в оригинале все же трудновато. Однако многие исследователи считают, что использование драматургом слов из «философского словаря», то есть терминов, объясняющих мировоззрение, миропонимание и т. д., свидетельствует, что всё это освоил не только сам автор, но и те, кому предназначались его произведения. Впрочем, творчество Шекспира не строится только на философских терминах и других «умных» словах. Важной составляющей являются и сами сюжеты, которые затрагивают темы, волнующие широкую публику: любовь, смерть, месть — всё то, что и сейчас ищут и в фанфиках, и в сериалах, и в видеоиграх. А заимствования и трансформация этих сюжетов были нормальным явлением для эпохи Возрождения. Пожалуй, многие из этих сюжетов стали настолько популярными именно благодаря их более удачным пересказам.
Первое упоминание истории, на которой базируется «Ромео и Джульетта», относят к 1476 году. Трагическая история о возлюбленных из конфликтующих семей, которым не суждено быть счастливыми, появилась в сборнике «Новеллино» итальянского писателя Мазуччо. В середине XVI века история была переработана и дополнена другим автором, новеллистом Маттео Банделло. Кстати, считается, что из его новелл взяты сюжеты комедий «Много шума из ничего» и «Двенадцатая ночь» Шекспира. Вероятно, его работами также вдохновлялись Лопе де Вега и Сервантес.
В 1562 году появилась поэма англичанина Артура Брука «Трагическая история Ромеуса и Джульетты».
Сам автор говорил, что написал ее под впечатлением от анонимной драмы. Сочинение Шекспира же датируется 1594–1595 годами. Точно неизвестно, написал ли он свою версию под влиянием работы Брука или же познакомился с иными вариантами на итальянском языке, но произведение Шекспира прочно вошло в историю, а иные варианты в учебниках литературы упоминаются крайне редко.
Считается, что и «Гамлета», которого сейчас называют главной пьесой и в творчестве Шекспира, и в истории театра вообще, автор «позаимствовал». Есть популярное предположение, что сюжет Шекспир взял у одного из своих коллег (вероятно, Томаса Кида), сочинявшего пьесу, материалом для которой, в свою очередь, послужила средневековая хроника Саксона Грамматика. Есть даже версия, что первая постановка пьесы в 1600 или 1601 году в театре «Глобус» не воспринималась зрителями как что-то новое, а была своего рода перезапуском или ремейком.
Многие пьесы в то время базировались на более ранних текстах, поэмах, стихах, но их надо было адаптировать под вкусы публики. А публика хотела пощекотать нервы, и различные исторические хроники, полные ссор, мести и кровавых сцен, отлично подходили для этого. «Гамлет», для нынешних зрителей полный рассуждений на вечные темы и считающийся великим произведением, для современников выглядел скорее блокбастером. И пьеса довольно быстро была издана в виде книги, но, как считают исследователи, не самим автором, а одним из актеров, то есть это был своего рода фанфик по пьесе. Правда, после пришлось издать уже оригинальную версию.
Сейчас даже те, кто не читал Шекспира в школе, знают, кому принадлежат слова «быть или не быть». И это заслуженно, ведь история стала такой, какой ее знают сейчас, именно благодаря таланту Шекспира, даже если на сцене до 1600 года и игрались версии других авторов.
Обложка: © ilikeyellow / Shutterstock / Fotodom