В рубрике «Полезное чтение» мы просим экспертов в области образования, друзей «Цеха» и известных людей рассказать нам о нон-фикшн книгах, которые помогли им в карьере, саморазвитии и самообразовании. В новой подборке своим списком любимой и полезной литературы делится театральная режиссерка Женя Беркович.
Книги о театре
Сочинения в четырех книгах, Анатолий Эфрос
Первая книга, о которой я хочу рассказать, состоит сразу из четырех. «Репетиция — любовь моя», «Профессия: режиссер», «Продолжение театрального романа» и «Книга четвертая» — это неспешные разборы пьес, поставленных Эфросом, которые перемежаются очень простыми и глубоко гуманистическими размышлениями о природе драматургии. Я часто перечитываю эти книги. Это теплое, неспешное, но грустное чтение, особенно, если знаешь, что жизнь режиссера закончилась плохо, как и история его театра. Но следить за тем, как работает не только режиссерская, но и просто человеческая мысль — все равно огромная радость. Создается ощущение реального времени, кажется, будто ты сидишь с Эфросом на репетиции, потом вы вместе приходите домой и делаете какие-то заметки.
«Пустое пространство», Питер Брук
Питер Брук — именно этому автору принадлежит знаменитое определение «живого и мертвого театра». Но если Эфрос — это практика, из которой вырастает философия, то Брук — философия, которую ты всю жизнь применяешь на практике. В этой книге он рассказывает о природе театра вообще, а также довольно подробно описывает свои режиссерские опыты в разные периоды жизни — в том числе за рубежом и со всевозможными артистами.

«Предлагаемые обстоятельства», Анатолий Смелянский
«Предлагаемые обстоятельства» — это практически учебник, в котором описана история советского театра с конца пятидесятых и до конца восьмидесятых годов. Большое внимание в книге уделено четырем главных режиссерам: Эфросу, Товстоногову, Ефремову и Любимову. Кажется, что Смелянский просто рассказывает, что и когда происходило в театральной среде, но всё это связано с советским историческим контекстом. Книга написана невероятно легко и увлекательно, я перечитала её, наверное, раз пять и почти выучила наизусть. При этом она дает не только достаточные знания о театре этого периода, но и показывает его связь с социальными, общественными и художественными процессами.
Страшно тяжелые книги о катастрофах XX века
«Чёрная книга», под редакцией Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга
Полное название этого сборника документов — «Черная книга: о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941-45 гг». «Черную книгу» не выйдет почитать перед сном или в перерыве с кофе — это чудовищно страшное чтение. Но сейчас я ставлю спектакль по ее материалам и много над ней работаю. Недавно я обнаружила для себя одну вещь: чтобы понять весь ужас Холокоста, важно знать и историю самой книги — как она создавалась, запрещалась, была уничтожена и снова издана в России всего пять (!) лет назад. В этом тоже есть катастрофа XX века.
«Блокадная книга», Даниил Гранин и Алесь Адамович
«Блокадная книга» во многом повторяет судьбу «Черной»: тот же период, схожая структура, цензурные резки и редактура. Идеологически неправильно было рассказывать всю правду о Блокаде. О ней будто бы ничего не хотели знать. То, что происходило в Ленинграде, изо всех сил умалчивали, вымарывали и скрывали. Поэтому книгу лучше читать со сносками, ссылками и историей создания.
Мемуары
«Моя мать — Марина Цветаева», Ариадна Эфрон
Я — чукча «не читатель»: о чем ставлю, про то и начинаю читать. Так случилось и с личностью Цветаевой. Я прочла о ней все что можно —дневники, письма и много другой прекрасной литературы — но мемуары ее дочери, Ариадны Эфрон, меня особенно впечатлили. Сложно сказать, что книга мне понравилась — это довольно тяжелое чтение. Но оно раскрывало важную для меня тему: что такое гений и является ли обязательной его невыносимость для себя и для окружающих? Цветаева, безусловно, была гением, но при этом — еще женщиной и матерью. Ее дочь находилась в эпицентре, видела ее жизнь не только изнутри, но и была в каком-то смысле ее продуктом. Кажется, что иногда через Ариадну в книге говорит ее мать. Но и сама она не менее интересна: Цветаева ужасно строго ее воспитывала, потом ее ждала эмиграция, смерть всей семьи и 17 лет советских лагерей. Тем не менее, Ариадна Эфрон не стала лишь тенью гения, а сохранилась как цельная и самостоятельная личность.
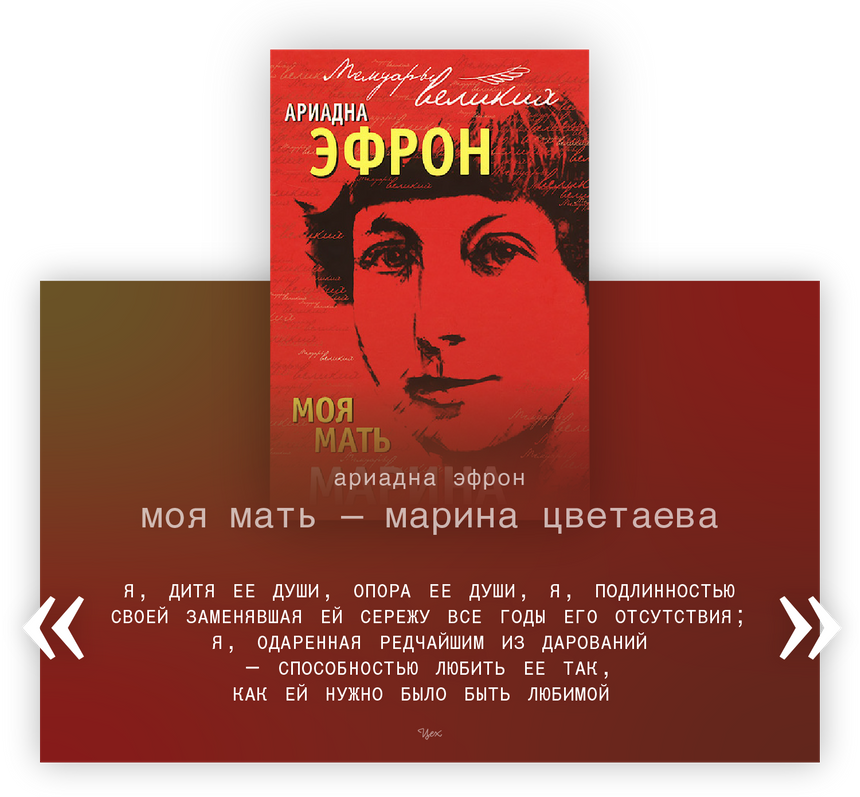
«Сквозь сумрак бытия» и «Вторая жизнь», Нина Катерли
Эти книги очень важны для меня, потому что их написала моя бабушка — Нина Катерли. «Сквозь сумрак бытия» — книга про Елену Катерли, её мать, очень известную в советское время писательницу, которая создавала производственные романы про сталеваров и ткачих. Этот жанр, конечно, исчез в одну секунду с Советским Союзом, но у самой прабабушки была невероятно интересная судьба. Она умерла довольно молодой — я ее не застала, мужа отправили в ссылку, и вся книга состоит из воспоминаний о ней, её дневниковых записей и писем, которые они с прадедом писали друг другу.
Вторая книга посвящена моему дедушке, мужу бабушки Нины. Внутри этой книги показан писательский диссидентский мир. Во «Второй жизни» уже появляются Довлатов, Бродский, и остро чувствуется дух времени. Читать это очень интересно, но для меня еще и потому, что это история моей семьи.
Психология и поэзия
«В класс пришел приемный ребенок», Людмила Петрановская
Я, по-моему, прочитала всё, что написала Людмила Петрановская, но самая важная для меня книга — «В класс пришёл приёмный ребёнок». Я прочла её задолго до того, как у меня появились приёмные дети и, если бы тогда мне кто-то сказал, что они у меня будут, я бы сильно удивилась. Книга оказалась невероятно полезной в профессиональном смысле. Механизмы становления привязанностей и травм у всех одинаковые, не только у сирот в детских домах. Из книги я вынесла много уроков, которые помогают мне лучше понимать артистов. Их отношения с режиссером во многом повторяют родительско-детские отношения, но это не значит, что «режиссер — взрослый, а актеры — дети» — я, наоборот, терпеть не могу эту риторику. Просто среди артистов в России много травматиков, у которых сложно складывались отношения с родителями. Петрановская объясняет, что происходит с травмированным ребенком, который то молчит, то громит все подряд, как с этим выжить и не сойти с ума. Мне это очень помогает на репетициях. Нельзя, например, выгонять со словами: «Всё! Если ты не хочешь, то пошёл вон! Я сниму тебя с роли!». Надо сказать: «Я тебя задолбаю, но я тебя не сниму, потому что ты мне нужен и ты будешь работать!». Так человек не чувствует себя отверженным, злится, но чувствует, что его принимают — и это очень классно работает.
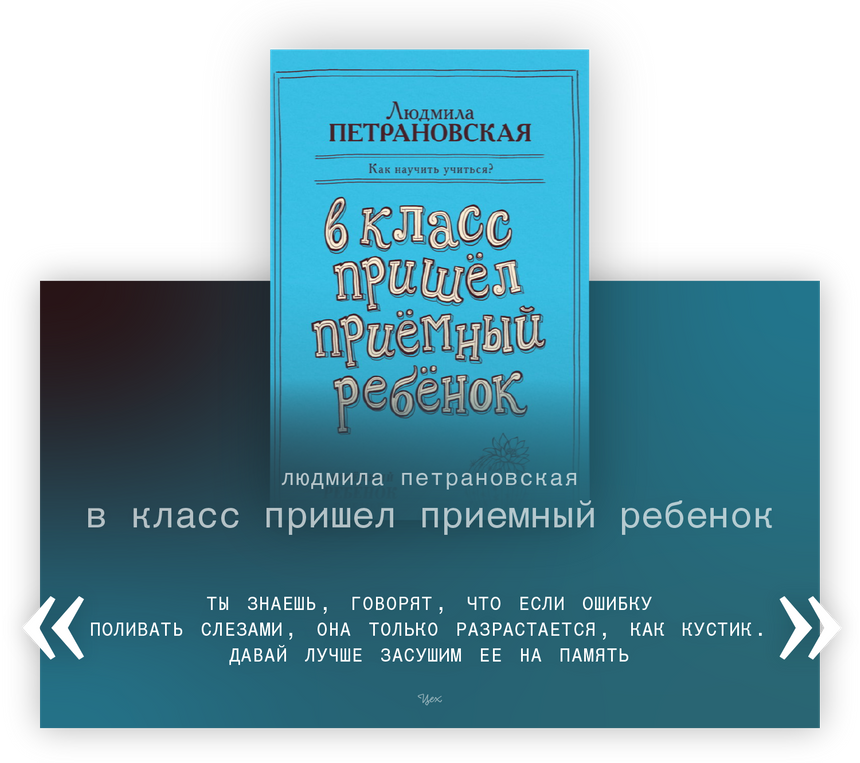
«О стихах», Михаил Гаспаров
Редкое и прекрасное чтение о литературе, которое и не история литературы в чистом виде (родился — женился — дружил с Добролюбовым), и не анализ в духе «что хотел сказать автор», а какое-то удивительное высказывание об устройстве поэзии и мира вообще. Похоже на детское ощущение, когда тебе показывают простые химические опыты: если сыпануть вот этого, долить вон того и слегка подогреть, то получится бьющая фонтаном синяя фигня с красными брызгами. Гаспаров как будто сам немножко удивляется: ух ты, как ни напиши, все получится про дорогу! А тут смотрите-ка, разные эпохи, стили и жанры — возникает невероятное совпадение и искрит.
Только полезные посты и сторис — в нашем Instagram







