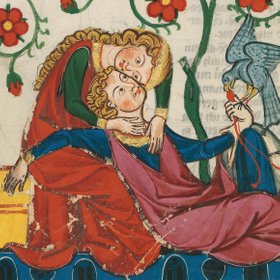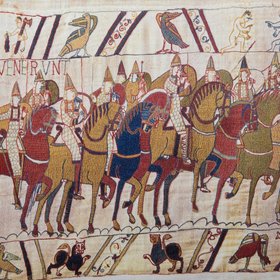Историк-медиевист Энтони Бейл в книге «Путеводитель по Средневековью. Мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников» рассказывает о приключениях в Средние века и популярных «туристических» маршрутах того времени. А еще делится советами о правильном поведении в харчевне и о том, что можно сделать, если вас бьет средневековый муж. С разрешения издательства «Альпина нон-фикшн» публикуем отрывок о методах борьбы с домашним насилием в Средние века.
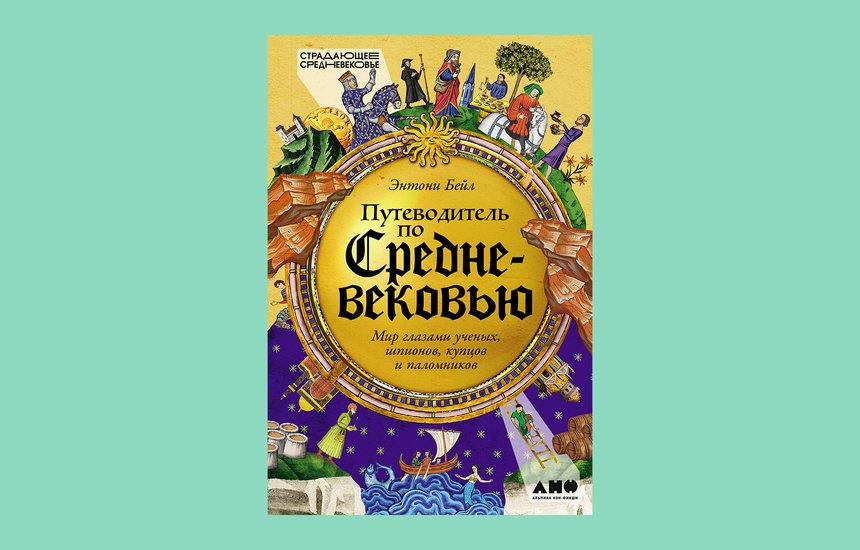
Ахен стоял на западной стороне Виа Реджиа, соединявшей фламандские порты Брюгге и Антверпен с крупными городами Северной и Центральной Германии, от Франкфурта до Кракова. Славящийся горячими источниками Ахен служил зимней резиденцией Карлу Великому (? /748–814), королю франков и лангобардов, правителю Римской империи. Он похоронен здесь, в величественном соборе, построенном им в 790-х годах. Поэтому Ахен был церемониальным, историческим городом на пересечении важнейших торговых путей Северной Европы, а также курортом (благодаря целебным водам), центром торговли (благодаря местоположению) и религии (благодаря собору, реликвиям и чудотворному образу Девы Марии). Паломничество в Ахен было одним из самых популярных маршрутов у европейцев в позднем Средневековье.
В 1384 году Доротея (1347–1394) и Адальбрехт (или Альбрехт) из прусского Данцига (совр. Гданьск) отправились в Ахен. Их брак не был счастливым. Доротея, из деревни Монтау (Монтовы-Вельки) близ Данцига, родила девять детей, и все роды оказались одни мучительнее других. Выжил всего один или два ребенка, но, по-видимому, Доротея оплакивала свою невинность больше, чем потерю детей.
Адальбрехт, оружейник из Данцига, много пил и много тратил. Ему очень нравилось держать жену под контролем. Он присматривал за детьми, а она служила Господу. Грубый и вспыльчивый Адальбрехт, на двадцать лет старше своей супруги, поколачивал ее. Несносный характер объяснялся несбалансированностью гуморов, да и подагра лишней обходительности не добавляла.
Доротея в свои тридцать с небольшим проводила очень много времени в церкви (стараясь, однако ж, не пренебрегать и домашними обязанностями). У нее случались религиозные видéния, она испытывала экстазы и со слезами на глазах вела разговоры с Иисусом и Девой Марией. Доротея стала поститься, увечить себя и ограничивать во сне. К тридцати восьми годам Доротеи все ее дети, кроме одного ребенка, умерли. Из-за своих мистических экстазов она перестала делить с Адальбрехтом постель.
Адальбрехт долго считал религиозность жены чертой неприличной, нелепой и крайне непривлекательной. В церкви она вскрикивала от избытка радостных чувств. Кое-кто из горожан поговаривал, будто Доротея рискует впасть в ересь. Шептались, что ее следует сжечь на костре. Адальбрехт пытался запирать ее дома, сковывая по рукам и ногам.
Однажды Доротея настолько увлеклась флиртом с Господом, что забыла подать мужу обед. Адальбрехт заковал ее в кандалы и, квалифицировав ее набожность как проявление неуважения к супругу, ударил Доротею табуретом по голове. Он поколотил ее так сильно, что в какой-то момент ему показалось, будто он убил ее. Глядя на обмякшее, изувеченное тело жены, Адальбрехт пришел в ужас, у него обнаружилось нечто вроде совести. Доротея выжила, и Адальбрехт согласился совершить паломничество, чтобы искупить свое ужасное поведение. Несчастная семья продала дом, мебель и поехала в Ахен. Дорога на запад (более тысячи километров) заняла более девяти недель. Они отправились через Магдебург, Лейпциг, Эрфурт и Кельн на повозке, иногда шли пешком.
Перемещаясь по Северной Европе с присмиревшим задирой-мужем, Доротея делала замечательную вещь: при помощи паломничества возвращала закоренелого грешника на путь истинный.
В Средневековье покаяние и исцеление души числились среди главных мотивов путешествий
Должным образом обставленное паломничество ничуть не напоминало увеселительную прогулку, то был род самобичевания, цель которого — подвергнуться духовному преображению.
Адальбрехт мог считать путешествие в Ахен неудачной затеей, чем-то вроде наказания — как Каин за свою жестокость был обречен скитаться. Или же он мог воспринимать паломничество как второе крещение, перерождение: взрослый человек вдруг смиряется перед Богом. Как бы то ни было, это определенно являло собой радикальную перемену в его жизни, прежде наполненной ремесленным трудом, развлечениями и деспотическими поступками. Доротее же паломничество в Ахен давало возможность превратиться из набожной домохозяйки в ревностную служительницу Господа, из жертвы своего мужа в невесту Христа, отношения с которым у нее были не менее бурными, чем с Адальбрехтом.
Во время посещения Ахена Доротеей и Адальбрехтом собор во многом оставался еще императорской капеллой, построенной Карлом Великим и освященной в 805 году. Это единственное в своем роде строение — просторное, с восьмигранным куполом, возвышающимся над массивными древними колоннами, с мозаичным потолком с золотыми, голубовато-зелеными и пунцовыми плитками. Дюрера в 1521 году восхитили «колонны из зеленого и красного порфира и гранита правильных пропорций, с красивыми капителями, которые Карл повелел привезти из Рима и установить здесь». О храме говорилось, что его «живые камни соединены в мирной гармонии» и обращены к вечности. Ни один из посетителей прежде не видел такого захватывающего дух архитектурного сооружения, такой небесной гармонии мрамора, кирпичной кладки и света.
Ко времени приезда Доротеи и Адальбрехта храм наполнился золотом и росписями. Здесь находились ковчеги с фрагментами мощей святых. Вырезанные из дуба и раскрашенные статуи изображали пухлого младенца Иисуса, улыбающегося своей розовощекой матери. На алтарных картинах — мрачные сцены бичевания и смерти Христа, а также Карл, ухмыляющийся сквозь бороду и держащий в руках похожую на барабан миниатюрную модель построенного им храма.
Впоследствии Ахенский собор вдобавок к праху Карла заполучил очень важные, уникальные реликвии, связанные с Христом и Богородицей:
- пелены младенца Иисуса — сложенный прямоугольный кусок бурого холста;
- набедренную повязку — выцветший кусок ткани, прикрывавший чресла Иисуса в момент казни;
- «плат от усеченной главы» — кусок камки, в который была якобы завернута голова Иоанна Крестителя,
- а также (самая ценная и известнейшая из всех вещь) риза, серовато-коричневая, без карманов, — накидка, которую носила Дева Мария в ночь Рождества.
Все реликвии подчеркивали как бедность, так и человечность Бога, чье присутствие можно было осязать в Ахене. По-видимому, интерес Доротеи к Ахену объяснялся главным образом привязанностью к Богородице: к 1380-м годам одеяние Девы Марии стало здесь наиболее почитаемой реликвией. Драгоценные ткани хранились в великолепном дубовом реликварии, украшенном золотом и эмалью. Он был изготовлен в Ахене в 1220–1230-х годах и напоминал церковный неф — намек на золотое здание рая. Лица, вырезанные на золотой поверхности реликвария, сияющего в густой тени капеллы, освещает канделябр (он висит в центре восьмиугольной капеллы-усыпальницы), преподнесенный императором Священной Римской империи Фридрихом Барбароссой (1122–1190). Капелла напоминала шкатулку внутри позолоченного венца, помещенного в фонарь, — очень гармоничная конструкция, вся обращенная к небесам, будто бы тянущаяся к свету.
Обретенные к началу XIV века реликвии стали притягивать в Ахен великое множество благочестивых путешественников, таких как Доротея и Адальбрехт. После 1349 года реликвии решено было демонстрировать раз в семь лет. Их показывали собравшимся сверху, с хоров, построенных между порталом собора и главной капеллой. Путешественники непрерывным потоком шли навстречу реликвиям под перезвон колоколов над головой. Паломники прибывали в Ахен, как отмечалось в XIV веке, со всех концов Европы — даже из Кенигсберга (совр. Калининград) на востоке, из Стокгольма и Линчепинга на севере, из Вены, Бистрицы и Филлаха на юго-востоке.
Поскольку сами богомольцы не могли прикоснуться к демонстрируемым издали реликвиям, они нередко вставляли в свои медальоны маленькие осколки зеркал, чтобы их «коснулось» отражение реликвии и таким образом наделило эти вещицы благодатью — и, опосредованно, их владельцев.
Примерно в 1400 году группа пилигримов явилась в Ахен с тяжелым деревянным распятием. Ребра Христа торчат, талия тонкая, как у ребенка, брови нахмурены, рот сведен судорогой боли, а глаза исполнены усталого разочарования. Распятие поместили в Ахенском соборе. Там оно висит и поныне — в часовне Святого Николая, что сбоку от главного храма.
После Ахена Доротея провела некоторое время отшельницей на берегах Рейна и еще несколько раз совершила паломничество, в том числе к часовне Благословенной Девы в швейцарском Айнзидельне. Для этого потребовалось преодолеть опасные перевалы и сотни километров топких дорог.
Пережившие обновление Доротея и Адальбрехт вернулись в свой Данциг, но Доротея обнаружила, что ее страсть к духовному закаливанию лишь усилилась. Прежде вкусная еда стала отталкивающей. Когда было холодно и шел снег, она часами простаивала в открытом окне, уязвляя и умерщвляя плоть. Доротея отказывалась спать, молилась и целыми днями ходила из угла в угол.
В следующем году пара попыталась вернуться в Ахен. По дороге, в Бранденбурге, на них напали разбойники. Доротея и Адальбрехт лишились одежды, денег, фургона и лошадей. Адальбрехт, ко всему прочему, был ранен. Доротея осталась босиком и в наводящей на нехорошие подозрения короткой юбке. Со временем они снова обзавелись пожитками.
Адальбрехт продолжал избивать Доротею. Он прогнал служанку и заставил саму Доротею править лошадьми. Она шла с фургоном, иногда вела его, еще мыла фургон, смазывала колеса, кормила и поила лошадей, успокаивала их. Однажды при переправе через озеро лошади прямо в барке принялись беспокойно бить копытами, но Господь укротил волны.
Некрасиво состарившийся Адальбрехт, с длинной седой бородой, плелся за женой. Встречные потешались над странной парой и кричали Доротее: «Сестра, куда ты ведешь своего Иосифа? К источнику молодости?» Они подразумевали место (мы тоже его посетим, но чуть позже), где, испив воды из волшебного источника, обретаешь вечную молодость.
Полтора года спустя, совершив еще одно нелегкое путешествие, пара вернулась в Пруссию. Адальбрехт всё колотил свою Доротею. Однажды, когда она позабыла купить соломы, он ударил ее кулаком в грудь, и Доротея много дней харкала кровью. В конце концов, пока жена в Риме навещала святых, ее муж умер.
Позднее Доротея перебралась в Мариенвердер (совр. Квидзын) близ Данцига и затворилась в неудобной отшельнической клетушке. Ее мытарства закончились. Доротея стала первой прусской святой, которая славилась своими мистическими откровениями и чудесами и тем самым привлекала множество верующих.
Путешествие в Ахен стало началом ее пути к святости. Похоже, опасная поездка в Ахен казалась Доротее самой желанной из возможных: только так она могла узреть и почтить Благословенную Деву, изменить свою жизнь и попытаться преобразить свой брак.
Через сто лет после путешествия Доротеи и Адальбрехта паломничество в Ахен стало удивительно популярным: в 1496 году всего за день в городские ворота вошло около 142 000 богомольцев, и всех их привели туда стремление получить благословение и жажда преображения.
Обложка: © Getty / Public domain